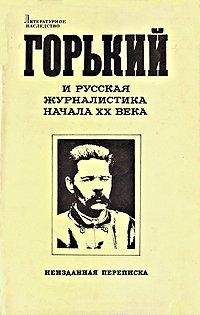Лев Шестов - Тургенев (неоконченная книга)

Помощь проекту
Тургенев (неоконченная книга) читать книгу онлайн
Любопытнейшая вещь: идеализм и утилитаризм явно презирают и не хотят знать друг друга, а втайне постоянно один другого поддерживают. Когда у утилитаризма иссякают "доводы", он обращается за громкими словами к идеализму. Когда идеализму нужно отыскивать "принцип всеобщего законодательства" он, нисколько не смущаясь, обращается за помощью к своему врагу. Приведу известный пример, сплошь и рядом предлагаемый кантианцами в объяснение догмата их учителя:
Есть заповедь "не лги". Спрашивается: почему не лгать? Отвечается, по Канту, — ибо, если все люди станут лгать (т. е. если ложь станет принципом всеобщего законодательства), то это приведет к ужасным последствиям, совместное жительство станет невозможным. Рассуждение вполне утилитарное.
Напоминаю — это не мой пример. Я лично даже думаю, что Кант тоже остался бы недовольным таким наглядным пояснением его учения. Собственно, по Канту нужно не лгать, хотя бы ложь приводила к самым полезным результатам, а правда грозила бы гибелью всему человеческому роду. Кант мог выдержать свой принцип исключительно потому, что его противники еще не теснили и никаких объяснений от него не требовалось. Если бы в самом деле Канту нужно было, да еще не теоретически, а практически разрешить вопрос солгать ли или погубить своей правдой отечество, он, вероятно, предпочел бы не писать "Критики практического разума". И тогда бы он, может, увидел, что говорить правду — это не обязанность, а привилегия. Многие хотели бы быть правдивыми, но не всем эта роскошь по средствам. И цари принуждены бывают лгать: вспомните дипломатические отношения. Но Кант этого не вспомнил. Его ограниченный жизненный опыт немецкого профессора подсказывал ему все скромные и незначительные случаи, где ценой большой лжи можно было купять маленькую выгоду, И он выставил принцип: ты не должен лгать — noblesse oblige.
Момент обязательности, принудительности долга, выдвинутый Кантом, как существенный, чуть ли не единственный предикат моральных действий, в конце концов, служит только указанием на то, что Кант в себе самом и в людях, к которым он обращался, был скромным человеком и даже в глубине души не делал различия между собою и другими — видел только существа, подлежащие облагораживающему действию морали. Noblesse oblige — формула не для родового дворянства, умеющего видеть в своих обязанностях свои главные привелегии, а для образованных разбогатевших выскочек, алчущих приобщиться к знати. Они привыкли лгать, трусить, мошенничать и т.д., и их пугает необходимость "бескорыстно" говорить правду, смело идти навстречу опасности, расточать богатства и т.д. И они, чтобы не забыть, ежечасно повторяют себе и своим детям, в жилах которых течет еще кровь их лгавших, дрожавших, пресмыкавшихся отцов: ты не должен лгать, ты не должен трусить, ты должен быть великодушньим и щедрым. И все это непременно бескорыстно, так, чтобы никто об этом не знал ничего. Это глупо, нелепо, непонятно разуму и здравому смыслу, это все, вероятно, сомнительного, потустороннего, метафизического происхождения, но noblesse oblige.
Так что, повторяю, Кант, вероятно, не согласился бы со своими учениками, что нельзя лгать, потому что это вредно для общества. Он во всяком случае меньше всего был заинтересован в таком наглядном сближении морали с общественной пользой. Тем более, что еще далеко не разрешен вопрос пользы или вреда лжи для общества. Может быть, наоборот, вредна правда. До сих пор, по крайней мере, мы не имели случая проверить на опыте, что вышло бы, если бы люди стали говорить правду. Может быть, правдивое человечество и дня не просуществовало бы. Пока мы знаем, что люди лгут непрерывно. И тем не менее человечество существует вот уже несколько тысячелетий. Так что заповедь "не лги" утилитарными соображениями не оправдывается. Но идеалисты сами хотят "польэы" и другого критериума нравственности не знают. Они только боятся признаться в этом, так как им кажется полезнее не заходить слишком далеко в своих признаниях.
И все-таки заповедь "не лги" принимается идеалистами, хотя у них за нее говорит одно предположение о ее пользе. Это естественно. Всякое мировоззрение стремится, исходя из того или иного разрешения проблемы человеческого существования, так или иначе направить нашу жизнь. Но у нас нет ни сил, ни данных для разрешения общей проблемы и, следовательно, все наши моральные выводы будут более или менее (говоря честно — только более) произвольны и будут свидетельствовать либо о наших предрассудках, если мы боязливы по природе, либо о наших склонностях и вкусах, если мы имеем смелость доверять себе и быть самими собою. Но поддерживать предрассудки — жалкое и недостойное философии дело; кажется, никто этого не станет оспаривать.
А потому, не самое ли правильное было бы решиться перестать огорчаться разногласиями человеческих суждений и пожелать, чтобы в будущем их было как можно больше? Истины нет, остается предположить, что истина в переменчивости человеческих вкусов. Посколько того требуют условия человеческого совместного существования, постараемся оговориться, но ни на иоту больше. Каждое соглашение, не вызванное крайней необходимостью, будет преступлением против духа Святого. Это один из важных аргументов в защиту так презираемой идеалистами утилитарной морали.
Мораль не может не быть утилитарной — и в этом нет беды. Нужно только, чтобы она не забывалась и не требовала бы себе не принадлежащих ей почестей. Но именно потому, что морали хочется занять слишком высокое положение, она заявляет претензии на всезнание и на всемогущество, и на суверенное право издавать обязательные для всех законы. Нужно утешить — мораль говорит "я могу." Нужно осудить бесповоротно — опять-таки мораль говорит: "я могу". И, чтобы сделать свои права несомненными, она отрекается от своего действительного прародителя — пользы, и объявляет себя потомком метафизического начала, перед которым должна смириться человеческая гордыня.
"Истина" — туда же, вслед за моралью, лезет в аристократы. И, для большей прочности успеха, истина ручается за добро, а добро, в свою очередь, за истину. А на деле, источником обоих является только боязнь и расчетливое стремление к пользе.
В последнее время, как известно, закон причинности, потерявший надежду утвердиться в качестве властителя над человеческими умами, обратился за поддержкой к морали и, таким образом, создалась сенсационная теория этического обоснования закона причинности. В свою очередь мораль, конечно, не даром предложила услуги истине. Где можно и поскольку можно "истина — закон причинности" обосновывает также и этику
Получается Circulus vitiosus, но это мало смущает представителей современной мысли, наоборот, — как будто бы ободряет, ибо при таком именно положении вещей наиболее гарантируется их прочность. Из заколдованного круга никак не выберешься — ergo он очерчивает собою область, за пределы которой не должна простираться человеческая любознательность.
"Истина" оправдывает "добро", добро оправдывает истину — если, как это делают немцы, такую точку зрения назвать еще телеологической — можно не бояться никаких нападок. Телеологическая — это ведь уже почти метафизическая... Но если захотеть называть вещи своими именами, придется отказаться от внушительных и торжественных слов. Вся аргументация идеалистов окажется сведенной к соображениям общественной пользы. И "закон причинности и "мораль", так смело аппелировавшая к потусторонним началам, существуют ради посюсторонних целей и, следовательно, воплощают в себе квинтэссенции обыкновенного здравого разума, который, повидимому, всегда так тщательно изгоняется из философии. Позитивизм пропитал собою современный ум, и от метафизики остались только громкие слова.
Поворот к Канту не принес философии ничего положительного.. - (в смысле)... устроения человечества на земле.
Homo homini lupus — одна из незыблемейших предпосылок вечной морали, заимствованная из обыкновенного житейского опыта. В каждом из своих близких, даже в себе самих, мы подозреваем опасного врага и потому боимся его.
"Этот человек легкомысленен — если не обуздать его законом, он нас погубит", — такая мысль является у нас каждый раз, когда кто-нибудь выходит из освященной традицией колеи. Опасение, конечно, справедливое: мы так бедны, так слабы, нас так легко разорить и погубить — как же нам не бояться? Но ведь нередко под опасным и грозным с виду поступком кроется нечто значительное и верное, что следовало бы внимательно и сочувственно рассмотреть. Но у страха глаза велики: мы видим опасность, и только опасность, и строим мораль, за которой, как за крепостной стеной, всю жизнь отсиживаемся от действительных или воображаемых врагов. Только поэты брались иногда воспевать опасных людей — дон Жуанов, Фаустов, Тангейзеров. Но поэтов никто не принимает всерьез. Здравый смысл ценит гораздо выше немецкого Landpfarrer’a, чем Байрона или Мольера.