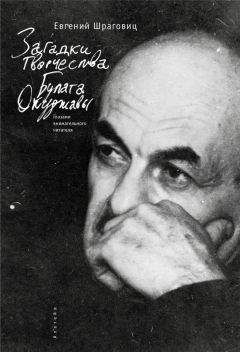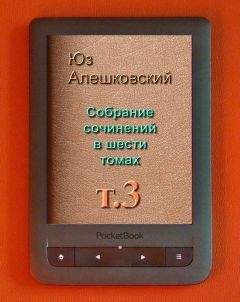Станислав Рассадин - Книга прощания

Помощь проекту
Книга прощания читать книгу онлайн
Если вспомнить еще один знаменитый фильм: пока это не было бунтом на броненосце, но команда уже начала воротить нос, принюхиваясь, чем ее кормят.
Именно послабления со стороны власти (при Брежневе и Андропове поумневшей, запомнившей недавние уроки), «оттепель», по выражению Эренбурга, «вегетарианские времена», по словам Ахматовой, когда ругали и не печатали, но уже не убивали, – именно это внушило даже не самым сильным духом писателям вкус к свободе. Покуда – робкой. В среде литераторов, уже слабо веривших в дело Ленина и сполна понявших преступность Сталина, возникла Иллюзия, будто XX съезд, разоблачивший «культ», это только начало. Дальше свободной мысли не будет удержу.
Это было похоже на правду, тем более что свобода мысли предполагалась как весьма относительная, большей пока не требовалось, не хотелось; повторю, Солженицын не предполагался, и его явление было не меньшим шоком, как если бы у нас напечатали жившего там Набокова.
Но XVIII века, когда, по словам Герцена, лучшие люди, даже опальные, вроде Фонвизина, шли вместе с властью, не вышло. Последняя иллюзия, вспыхнув, и стала последней.
Получилось так. что шестидесятники (хотя лучше бы это понятие по причине его условности брать в кавычки), сами – говорю со всею жестокостью – наивные до глуповатости, невольно внедрили в общество ту мудрость, которую можно добыть не прозрением, будь ты хоть тысячу раз пророк или гений, но только опытом. Боками. Хребтом, постепенно учившимся не гнуться «вместе с линией партии». Кончилось время очарований, и как была эпоха Великого Перелома, когда советская власть ломала через колено хозяйственного мужика или независимого интеллигента, так наступила эпоха Великого Раздела. Литература – естественно, та. что хотела быть свободной реализацией дара, – отпала от власти.
Еще и еще раз: говорю не о великом бунтаре Солженицыне, перевернувшем представления о дозе свободы. Даже не об Искандере, Владимове или Чухонцеве, чье безыллюзорное – или почти таковое – сознание само по себе было чем-то вроде спокойного бунта. Великий Раздел, размежевание советской идеологии и литературы, мало-помалу теряющей право и притязания на эпитет «советская», с неотвратимостью совершался теми, кто бунта не замышлял. Кончалась тоталитарная власть над умами – не только сугубо избранными, вот в чем дело; кончалась та власть, которой мало лояльности, подавай преданность и запродан- ность, подтверждаемые постоянно. И вот власть, то ли поумнев, то ли, что куда вероятнее, сама потерявшая свою веру, соглашалась терпеть всего лишь лояльных. Или не показывающих нелояльности – как «деревенщиков», Трифонова…
Но это уже другой разговор, к настоящей книге отношения не имеющий.
ТРИ ЛЕГЕНДЫ ОБ ОКУДЖАВЕ
Сорок (с хвостиком) лет назад в коридоре «Литературной газеты» меня остановил Георгий Владимов, короткое время бывший моим сослуживцем. (Вот-вот должна была появиться в «Новом мире» его первая проза, «Большая руда», и не предвиделась великая повесть «Верный Руслан»; как и то, что в будущем 1995-м я, в качестве председателя жюри, буду вручать ему Букеровскую премию за роман «Генерал и его армия».)
– Слушай, – спрашивает Жора, – это правда, что Булат написал такую песню: рота солдат изнасиловала девочку, но, дескать, ничего, война все спишет?
Я на мгновение онемел, тут же со смехом сообразив: речь о нежнейшем стихотворении про «девочку по имени Отрада».
Ты клянись, клянись, моя рота, самой высшей клятвой войны: перед девочкой с Южного фронта нет в нас ни грамма вины…
Мы идем на Запад, Отрада,
а греха перед пулями нет.
Это сознание безгрешности перед угрозой гибели – как чистая рубаха, надеваемая перед боем.
В общем-то все понятно. «Былым защитникам державы, нам не хватало Окуджавы», – уже цитировал я Самойлова. Да, мы все, как оказалось, ждали его появления, не подозревая, что ждем, тем более не догадываясь, чтб именно и кого именно. Вот молодой Владимов, едва прослышав о фабуле новой песни, и предвидит заранее тогдашнюю «чернуху». Как иначе? Надоела сладкая ложь о страшной войне, чем нас перекормили, вот, значит, и от Окуджавы, в то далекое время еще не для всех ясного, ожидают жестокой «окопной правды». Чем жесточе, тем ожидаемее.
А он не оправдывает ожиданий.
…В пору нашей общей, хоть и разновозрастной молодости я, среди иного прочего, поведал ему историю своего отца. Рабочий, мечтавший о шоферской карьере, которая не сложилась из-за дальтонизма, и оттого трудившийся на загадочной галалитной пиле (дело было на фабрике, производившей пуговицы), он вдруг был совращен приятелями в «искусство». Попросту говоря, будучи, видимо, музыкальным от своей рязанской породы, хоть и не игравший ни на одном инструменте – о знании нот не приходится и говорить, – стал джазистом. Овладел трубой, потом, по беззубости, перешел на ударные – после войны в нашем чулане долго хранились барабаны, огромный и поменьше, тарелки, щетки, чей вид помню, о назначении догадываюсь, точного, профессионального наименования не знаю.
Выступал в ресторанах, что переросло в проблему даже для нашей, достаточно пьющей семьи; в кинотеатрах. С последнего места работы, из кинотеатра «Перекоп», и был взят в ополчение летом 41-го.
(Отвлекусь: день ухода отца – самый первый, который я помню целиком, с утра до вечера. Вот мама везет меня из подмосковной Мамонтовки, где я был в детском саду; вот сигнал воздушной тревоги, и мы всем двором прячемся в общем погребе – потом, до эвакуации, будем уходить на ночевку на станцию метро «Сокольники». Вот приходит отец – в гимнастерке, в обмотках. Помню накрытый стол; помню, как провожали отца до Преображенской заставы; он вскочил на подножку трамвая; мама заплакала… Все.)
Уже осенью отец сгинул.
Это, никак не более того и нисколько не романтичнее, я и рассказал моему другу, чем неожиданно вызвал к жизни стихотворение, которое он посвятил мне и озаглавил «Джазисты»:
Джазисты уходили в ополченье,
цивильного не скинув облаченья.
Тромбонов и чечеток короли
в солдаты необученные шли.
Кларнетов принцы, словно принцы крови,
магистры саксофонов шли, и, кроме,
шли барабанных палок колдуны
скрипучими подмостками войны.
Далее – в том же роде и стиле, вплоть до лирико-драматического финала:
Редели их ряды и убывали.
Их убивали, их позабывали.
И все-таки под музыку Земли
их в поминанье светлое внесли,
когда на пятачке земного шара
под майский марш, торжественный такой,
отбила каблуки, танцуя, пара
за упокой их душ.
За упокой.
Во всем ряду «поющих поэтов» лишь двум именам не единожды приходилось быть ревниво столкнутыми. Не слыхал, чтобы Окуджаве противопоставляли Высоцкого. Или Галича – Юлию Киму. Зато Окуджава – Галич…
Юрий Нагибин, долгое время друживший с Галичем, признавался: их расхождение началось с того, что он не принял новой творческой ипостаси друга – как раз его песен. «Изменил» ему с другим поэтом: «Я был в плену у Окуджавы. Сашины песни мне не нравились».
Пуще того. «Измена» подтолкнула Нагибина к обобщению:
«…Почему можно любить Толстого и Достоевского, Чехова и Бунина, Мандельштама и Пастернака, Леонардо и Рафаэля, Пруста и Джойса, но нельзя любить Козловского, если любишь Лемешева… Может быть, пение действует на какие-то ментальные или чувственные центры, что исключает совместительство?…»
Мысль, говоря деликатно, спорная, но что было, то было: друзья и поклонники Окуджавы и Галича действительно бывали ревнивы. Сколько раз приходилось встречать заданный в упор вопрос:
– Тебе кто больше нравится, Булат или Саша?
И когда я робко ответствовал: «Оба», то порою наталкивался на негодование. Как же так? Наш-то – много лучше!
Что, в общем, можно понять. Оба – взаимно контрастны, отчего сейчас и вспомнились разом.
Не помню, рассказывал ли я Галичу о своем отце. Вероятно, да, но следов мой рассказ не оставил, и потому безответственно фантазирую. А вдруг (чего не бывает?) и он тем самым был бы спровоцирован на написание песни?
Само предположение фантастично, несбыточно – во всяком случае, не сбылось, – но совсем не фантастика допущение, как Галич воспринял бы, как воплотил заурядную, в сущности, ситуацию военных лет.
Вряд ли его привлек бы поворот моего отца к экзотической профессии (экзотической – для нашей семьи, для нашего двора, да и для 1960 года, когда Окуджава сочинил «Джазистов». Джаз был тогда вроде музыкального диссидентства). Галича привлекли бы – если бы привлекли – совсем другие реалии.
Например, само ополченство – эта, хотя бы отчасти, легенда, приукрашенная пропагандой, ибо «солдаты необученные» не всегда шли в ополчение добровольно, но бывали мобилизованы. Во всяком случае, троица джазистов, подвизавшаяся в «Перекопе», насколько я знаю, была мало похожа на олицетворение энтузиазма, но все трое попали на фронт, и все трое погибли. Да и могли ли не погибнуть, когда, как известно, даже трехлинейных винтовок далеко не хватало на всех?