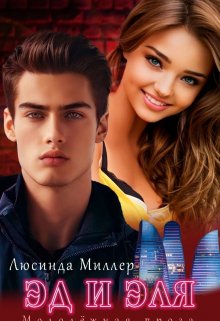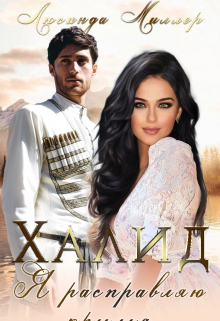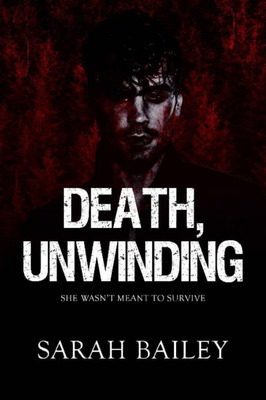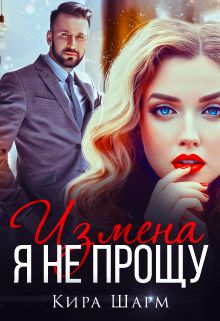Василий Немирович-Данченко - На кладбищах

Помощь проекту
На кладбищах читать книгу онлайн
И, разумеется, на зиму все-таки поехал, если мне не изменяет память.
Как-то выходим от Ковалевского.
В его саду только что поднялась великолепная пальма. Ствол еще не подрос, и вся она роскошным венцом точно к земле припала.
— В Москву хочу!
— Ну что в Москве хорошего? — смялся я. — Посмотрите здесь — какая это прелесть!
Чехов с ненавистью взглянул на пальму.
— Нашли тоже: жирная индюшка села, и встать ей трудно. То ли дело наши березки. Скромные, стыдливые, беленькие. Совсем мещанские невесты из старозаветной, хорошей семьи. Вывели Феничку к жениху, а она не знает, куда ей глаза девать. А то еще сравнение — пальма! просто громадный кочан какой-то — нашли красоту!
В последние годы он стал молчалив, а тогда любил думать вслух.
— Я только что из Ментоны. Сидели рядом на берегу в креслах чахоточные. Ноги в толстых пледах, теплые шапки на нос надвинуты. Злятся и плюются. А море, здоровое, сильное, смелое, катится к ним. У кресел жены или мужья. Хорошо бы написать, как они ненавидят этих умирающих, как рабы, прикованные к галерам. И про себя думают: скоро ли тебя, подлеца, черти унесут… И только природе нет дела ни до тех, ни до других.
Немного спустя:
— Пришло мне, слушайте, очерк один. Сельская учительница в крестьянском возке. Едет в город за жалованьем. Наголодалась и нахолодалась. Сама в овчинном тулупе, в сапогах. Лицо бурое, грубое, обветренное. Грязью захлестало всю. Шелудивая лошаденка добежала до чугунки и стоп — проезду нет. Опустила голову, тяжело дышит. Мимо громыхают вагоны. В окнах первого и второго классов мелькают молодые, нежные девушки. Хорошо одетые. Вот и вагон-ресторан бежит. Чисто, тепло, сытно. Учительница смотрит, в каждом улыбающемся тонком личике себя узнает. Такой, какою сама была несколько лет назад… Подняли шлагбаум. Возок покатился. Мужичонка корявый, жесткий, как мозоль, оглядывается, что это-де случилось? Видит и понять не может, чего это учительша ревет. — «Нешто кто тебя обидел?» — Сама себя обидела.
Мне это понравилось.
Через несколько лет спрашиваю:
— Написали?
— Нет, что ж… И не буду. Не выходит как-то. Не стоит.
Я начал возражать.
— Если хотите, вставьте при случае главку. А мне… я пробовал и разорвал.
Рвал он много начатого и неудававшегося ему. Неудававшегося, разумеется, по его мнению.
Я прожил большую жизнь. На моих глазах ушло, родилось и выросло много пишущей братии, но, повторяю, я не знал никого, кто бы так строго относился к себе, как А. П. Чехов. Легендарные десять лет, которые выдерживал в своем письменном столе рукописи И. А. Гончаров, — по нынешнему времени уходят в область дидактического баснословия. Всякая работа нынче утратила бы свое значение, особенно при ускоренном темпе современности, начавшемся уже в чеховские годы. Тургеневское «пусть спеет» было возможно, потому что у него барского doice far niente [19] оказывалось в распоряжении с зари и до зари.
Чехов жил тем, что зарабатывал, да и семью содержал. Ему нельзя было щеголять такими писательскими причудами и господскими затеями. Великому Л. Н. Толстому тоже не трудно было выжидать да по десяти раз перекраивать и передиктовывать свои сочинения. Нам, литературному пролетариату, время — деньги, и уж очень-то щедро тратить его не приходилось. Случалось продавать самые дорогие сердцу авторскому произведения на корню, и наша совесть молчала, потому что работалось впроголодь и впрохолодь. Да еще на каждый наш рубль десяток ртов было разинуто! Попробуй выдержать роман в письменном столе при деликатных намеках: «Что же это вы, батюшка, аванс взяли — а оригинала и по сию пору в типографии нет? Это уж мы вам предоставляем сообразить, как это называется между порядочными людьми», — и т. д. в том же милом и деликатном роде.
Но Чехов, действительно, каждую строчку оглядывал, взвешивал и примерял Бог весть сколько раз. Разумеется, продли ему судьба жизнь, он — уже сравнительно более обеспеченный в своем ялтинском уголке — начал бы настоящую ювелирную обработку задуманного. Его авторская трагедия в том и заключалась, что он ушел в тот момент, когда от него можно было ожидать таких сочинений, которые составили бы эпоху в нашей изящной словесности. В этом отношении небо особенно немилостиво к русскому писателю. Вспомните Веневитинова, Пушкина, Лермонтова, Полежаева, Слепцова, Помяловского, Гаршина, Надсона.
Глупые Парки ткут без конца нити всевозможных жизней никому не нужной бездарности и обрывают те, с которыми перевились радужнейшие из наших ожиданий и надежд.
Чехова сравнивали с Мопассаном, воображая, что делают великую честь русскому писателю — одни, или ставят рядом две одинаковые величины — другие. Мне это казалось всегда обидным для памяти нашего Антона Павловича. Блестящий французский рассказчик и вдумчиво-глубокий наблюдатель русской жизни. Что же между ними общего? Разве только объем маленьких рассказов и миниатюр. Уже одно то, что у талантливого парижского новеллиста всюду почти на первом плане адюльтер, который у Чехова встречается редко и в такой скромной форме, точно его и нет совсем. Гюи де Мопассан, мастер шаржа и смеха, почти вовсе лишен юмора, которым Чехов был одарен в высшей степени. Правда, на палитре у первого были гораздо более яркие краски, но ведь неизвестно еще, не показал ли бы нам Антон Павлович такие же. Ведь нельзя же одними колерами рисовать Чухлому и Козмодемьянск или Алжир и Прованс. Такой сильный художник-наблюдатель, как автор «Трех сестер» и «Вишневого сада», разумеется, не стал бы макать свою кисть в северную мглу, чтобы смелыми штрихами набросать картины солнечного юга. А по отношению к глубине проникновения в человеческую природу, в душу маленьких, незаметных, хмурых, никчемных людей — во всю эту протоплазму конца 80-х и начала 90-х гг. — в действовавшей и действующей литературе Франции за последние сто лет, разумеется, нет никого равного Антону Павловичу. Это сравнение с Мопассаном, которое казалось вначале очень лестным маленькому Антоше Чехонте, заставляло его добродушно улыбаться, когда он дорос до настоящих размеров своего гения. «Пускай их — ведь они без ярлыка или сравнений обойтись не могут. А так навесят на человека этикетку, и рады. С нею и бессарабское за настоящий шатолафит сойдет». Разумеется, продли судьба Антону Павловичу жизнь еще на несколько лет — иное дело. Все такие сравнения и для литературных слепышей показались бы более чем странными. Антон Павлович был отнят у нас в те годы, когда русский гений только прочно становится на ноги и чувствует мощь своих развернутых крыл. Из орленка, несомненно, разросся бы настоящий орел. В этом отношении Чехов увеличил собою Четью-Минею рано отнятых у нас судьбою властителей дум. Я хотел было сказать «угасших», но именно это не подходит к Антону Павловичу. Его костер только что разгорался ярким пламенем, и судьба задула его, когда в нем было еще многое, чему оставалось пылать. Ведь добрых 10 лет А. П. Чехов потерял на завоевание себе жизни, на борьбу с обыденщиной, в скитаниях по мелким журнальцам, набрасывал сотни крохотных рассказов из эпохи нашего печального безвременья, когда старые идеалы слиняли, идеалисты ушли со сцены, а новые еще не выступили на нее. Несомненно — проживи он еще — осуществились бы и его мечты о большом романе. Я помню, как он мне в Крыму говорил: «Не умру без большого романа. Настоящего большого. И Немировичу и всем (он не мог не подтрунивать, у него все переплеталось с шуткой) нос утру». И потом уже серьезно: «У меня он, этот роман, давно в голове. Все, что я писал, только размахивался. Пробовал. Это были этюды перед большою картиной. Отдельные черточки. Всю бы русскую жизнь хотелось втиснуть, так листов в пятьдесят-шестьдесят печатных. Меня вон с Мейсонье сравнивают, а я чувствую силы и для громадных полотен, так чтобы не стесняться размерами. Кого хочу, того и ввожу, и всем есть место».
Думаю, что роман А. П. Чехова создал бы эпоху в нашей словесности. Недаром с такою тоскою он повторял: «Ах, мне бы здоровья. Силы побольше. Страшно подумать — могу, и не сделаю, а миллионы, которые не могут и не делают, — живут, живут, живут… Мне бы еще десять лет, только десять. Я бы заперся на это время, как старцы уходили в пустыню. В Фиваиде, и там бы писал, писал, писал»…
Большой роман! Мне из-под пера Чехова он представлялся равнозначащим в литературе «Дон Кихоту» Сервантеса, «Мертвым Душам» Гоголя и «Обломову» Гончарова. Он, живописавший житейскую пошлость, — только еще начинал размахиваться на более крупное, смелое и сильное. От своего добродушного безразличия к изображаемым им людям — он уже переходил к более страстному отношению к наблюдаемым тонко и художественно явлениям. Поразительный реалист, он уже угадывал новую, слагающуюся вдали, жизнь! В этом слабом теле, потрясенном и разрушенном поездкою на Сахалин и возвращением через Сибирь, жила большая душа, которая только к 1904 году — год смерти — почуяла свою силу и рванулась на простор… Прежнее признание действительности сменялось отрицанием ее, сознанием необходимости пером, как мечом, бороться с нею — да, большой роман скоро из мечты перешел бы в явь, и сама фигура его автора выросла бы перед нами в более грандиозном размере. Судьба, все давшая ему для этого, — все отняла у него на самом повороте с проселка на большую дорогу.