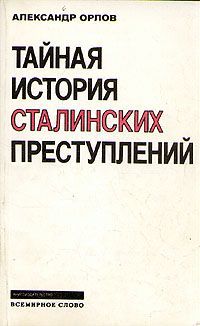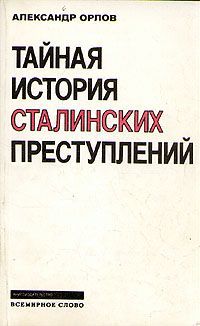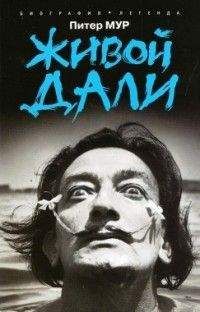Семен Либерман - Дела и люди(На совесткой стройке)

Помощь проекту
Дела и люди(На совесткой стройке) читать книгу онлайн
* * *
В Париже наступила психологическая реакция. Я остро почувствовал все последствия двухмесячного напряжения и вместе с тем окончательно осознал, что я уже никогда не смогу вернуться на советскую службу в старых условиях. Я переживал этот разрыв чрезвычайно болезненно. Моя нервность дошла до того, что я был на краю заболевания манией преследования. Пришлось обратиться к врачам, которые посоветовали мне отправиться в швейцарскую санаторию. Я провел в санатории шесть недель. Сперва я был в таком состоянии, что даже стук шагов почтальона вызывал у меня сердцебиение. Моя нервная реакция на все раздражения внешнего мира была такова, что врачи распорядились поместить меня в комнату, где я был совершенно изолирован. Тем временем я стал получать письма из России с предложением вернуться и с обещанием, если мне не хочется работать в лесной промышленности, предоставить мне работу в другой области, например, пост директора советского банка в Париже. Мне предлагали выбрать всякую другую работу за границей, с условием проводить минимум три месяца в России. Среди этих писем было также письмо за подписью заместителя Наркомвнешторга, М. И. Фрумкина, следующего содержания : «Все друзья ваши, в том числе и я, не можем себе представить, что вы не будете работать с нами в деле строительства Советского Союза. Я пишу это письмо с ведома наших вождей*); мы ждем скорого вашего возвращения». . Аналогичное письмо я получил от председателя Главлескома - в прошлом известного чекиста Яковлева, который сам рассказывал о себе, что, будучи председателем одесской Чека, он приговорил к расстрелу родного отца за контрреволюцию, причем приговор был приведен в исполнение. Письмо Яковлева передал мне Пор, упомянутый мною выше член правления Северолеса, в это время занявший уже мой пост по заведыванию внешней торговлей лесом. Каждое такое письмо выводило меня из равновесия. Я реагировал на эти письма с болезненной чувствительностью, тем более, что, как я теперь ощущал, я не мог больше с любовью делать то дело, которому отдал восемь лет своей жизни. Я чувствовал, что если поддамся уговорам и снова пойду на советскую работу,то в нее ворвется фальшь, ложь и лицемерие, и прежнее ощущение полной преданности делу уже не вернется никогда.
Я остался за границей. Возвратившись в Париж, я решил повидать Раковского, который в то время был советским послом во Франции: у меня с ним установились еще раньше добрые личные отношения. С большим волнением я рассказал ему обо всем, что пережил; отчасти он уже знал о моих перипетиях. Выслушав меня, он сказал:
- Конечно, жаль терять таких людей, как вы. Но другого выхода для вас я не вижу. До сих пор судьба вас баловала, вы имели за собой поддержку Ленина. Теперь вам будет трудно. Я не буду вас осуждать, если вы не поедете в Москву. После долгих размышлений, я ответил Фрумкину на его письмо. Копию своего письма я отправил в Центральный Комитет коммунистической партии, также и в Высший Совет Народного Хозяйства. Этого письма у меня под рукой нет, я восстанавливаю его по памяти: «Я никогда не был членом ВКП, но работал как специалист; я верил в свое дело и вкладывал в свою работу все свои силы и способности. Восемь лет своей жизни я отдал советскому правительству в качестве одного из тех двух миллионов советских служащих, которые были призваны к этой работе. Позвольте мне теперь сделаться одним из 170 миллионов непривилегированных советских граждан. Лесная промышленность теперь налажена и может работать беспрепятственно. В капиталистических государствах за заслуги дают ордена и награды. Для меня же единственным вознаграждением остается удовлетворение, что я не попал в руки Чека. Заверяю вас, что я никогда не окажусь по ту сторону баррикад. И я надеюсь, что со временем сложатся условия, которые позволят мне вернуться к работе». Так кончилась моя активная деятельность в деле восстановления советского хозяйства.
*) Вождями в тот период были Сталин, Зиновьев и Каменев.
Глава восемнадцатая СОЦИАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ ПРИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДИКТАТУРЕ
Когда я оглядываюсь назад и политически оцениваю то, что мне пришлось наблюдать во время моей десятилетней близости к советской власти, я все отчетливее вижу те основные черты пореволюционного строя, которые определили развитие СССР и привели его к нынешнему положению. Каждый невольно задает себе сейчас вопрос: как объяснить тот факт, что, при существовании железной диктатуры, народ СССР все же настолько осознал себя национально, так вырос материально и духовно, что смог столь блестяще осуществить защиту своей страны? Для того чтобы правильно судить о современной России, надо помнить о некоторых особенностях русской революции, продолжающих играть важную роль и поднесь. Большевики пришли к власти и удержались по ряду исторических причин; но одной из них было отсутствие в стране других реальных и организованных сил, которые хотели бы и решились бы на то, чтобы развязать революцию и довести ее до ее логического завершения. Троцкий как-то сказал по этому поводу: когда народ, изнывающий под гнетом умирающего режима и жаждущий избавления от него посредством революции, встречает на своем пути ту революционную партию, которая глубоко верит в эту революцию, - тогда создается благоприятная обстановка, при которой революция и осуществляется. Разложение старого режима еще до 1917 года зашло так далеко, ненависть и презрение к нему во всех классах населения были столь сильны, что, с падением трона Романовых, вся социально-политическая структура царского государства рассыпалась прахом. Немногочисленное дворянство, опора самодержавной власти, с момента национализации земли - единственного источника его политической силы - превратилось в «человеческую пыль».Промышленная буржуазия тоже была немногочисленна и слаба. Кроме того, она не обладала тем опытом управления и политической самодеятельности, какой имела буржуазия Запада, и выказала себя трусливой и не подготовленной к грозным событиям 1917 и 1918 годов. Правда, впоследствии, в 1919-1921 годах, и буржуазия, и часть дворянства, и некоторые элементы интеллигенции попытались организовать сопротивление и начали гражданскую войну; но в процессе этой борьбы выявилась неотчетливость идеологии, слабость воли этих групп и отсутствие у них. корней в народе. Гражданская война привела лишь к усилению классовой ненависти, к террору и почти поголовному физическому истреблению представителей старого строя. К 1921 году дворянство, крупная - а отчасти и средняя - буржуазия были ликвидированы в России. Что касается радикальной и либеральной интеллигенции, то, хотя она стояла за революцию, но в своей тактике она исходила из ошибочной предпосылки, что революцию должна возглавлять буржуазия; таким образом, она поставила на карту, битую историей, и оказалась в стане побежденных. Кроме того, в ней произошел раскол, поведший к ее растерянности и ослаблению. Русские социалисты боялись взять в свои руки власть, хотели делать революцию в белых перчатках, предавались идеалистическим мечтаниям и не возглавили народных сил, которые в это время больше всего жаждали твердого руководства в осуществлении отчетливых и волевых лозунгов. Некоторые группы интеллигенции сознательно пошли на службу к большевикам, считая, что новая власть, как бы плоха она ни была, все же - народная власть. Другие заняли нейтральную позицию. Часть интеллигентов социально опростилась», сняла «белый воротничок» и «пошла в народ». Это не было похоже на«хождение в народ» 70-х годов прошлого столетия, когда в движении участвовали «кающиеся дворяне» или революционеры-идеалисты. После победы советской власти интеллигенция только этим путем могла спасти себя, спасти в самом грубом смысле этого слова, то есть избегнуть голодной смерти. Она стала занимать мелкие служебные посты в большевистской администрации, начала работать по ликвидации безграмотности и т. п. и, в общем, к 1924-1925 году вошла, как один из составных элементов, в новую жизнь и примирилась с властью. Большевики, беря власть в свои руки, исходили из того, что основными движущими силами революции являются рабочий класс и крестьянство, то есть большинство русского народа; свою же роль они понимали как руководителей, вождей этого большинства. Они, действительно, показали себя решительными, смелыми лидерами, которые, поставив перед революцией определенные задания, твердо и неуклонно вели народ к их осуществлению. В то же время политика советской власти была направлена на то, чтобы укреплять фундамент нового строя через политическое воспитание масс и превращение всех трудящихся в сознательных и активных строителей Советской страны. Красной нитью проходит эта тенденция через все этапы развития Советской России. С начала революции Ленин, в целях укрепления диктатуры пролетариата и привлечения масс к творчеству новых форм жизни, намечал путь участия рабочего класса, а также и крестьянства, в массовом контроле над государственным аппаратом. В то же время этот контроль должен был стать действенным орудием улучшения административной системы и борьбы с ее бюрократизацией. Уже в 1919 году были намечены следующие меры для устранения недостатков государственного аппарата и для того, чтобы строй не выродился, как говорили тогда, в «советский термидор»: : 1) обязательное привлечение каждого члена Совета Рабочих Депутатов к выполнению определенной работы по управлению государством; 2) последовательная смена этих работ, с тем чтобы они постепенно охватывали все области управления; 3) постепенное вовлечение всего трудящегося населения в работу по управлению государством. В апреле 1919 года Ленин писал Сталину (который, будучи наркомом Рабоче-Крестьянской Инспекции, представил в Совнарком проект реорганизации этого отдела): «По-моему, в декрет о Контроле надо добавить: 1) создание центрального (и местных) органов рабочего участия; 2) ввести по закону систематическое участие понятых из пролетарского населения, с обязательным участием до 2/3 женщин; 3) выдвинуть на первый план тотчас же, как ближайшие задачи, летучие ревизии по жалобам граждан, борьбу с волокитой, революционные меры борьбы с злоупотреблениями и волокитой, особое внимание повышению производительности труда и увеличению количества продуктов и т. д.». На это Сталин отвечал Ленину, что«это - вопросы политики реорганизованного Государственного Контроля. Ничего не имею по существу против таких пунктов, наоборот, они необходимы». Это показывает, что уже в то время Ленин, пытаясь реорганизовать контроль государственного аппарата, имел в виду привлечение масс именно с точки зрения политической тактики. В январе 1920 года Ленин писал Сталину по тому же вопросу и, между прочим, указывал на следующее: «Цель (Рабоче-Крестьянской Инспекции) - всю трудящуюся массу, и мужчин, и женщин особенно, провести через участие в РКИ; ...читать лекции беспартийным конференциям рабочих и крестьян об основах Государственного Контроля; ...постепенно вызывать крестьян с мест (обязательно беспартийных крестьян) для участия в ГосКоне в центре. Тоже для беспартийных рабочих..,» А в 1923 году в своих статьях «Как нам реорганизовать Рабкрин» и «Лучше меньше, да лучше» Ленин заявлял, что, хотя советская власть построена на диктатуре рабочего класса, но рабочий класс может осуществить эту диктатуру только в сотрудничестве с крестьянством и должен тщательно избегать малейшей ошибки в отношении к последнему, дабы не допустить катастрофы. Поэтому важно, чтобы не только рабочие, но и беспартийные крестьяне принимали участие в строительстве и контроле государственного аппарата страны. Среди специалистов - хозяйственников, инженеров и т. д. - такая попытка привлечения «кухарок» к управлению страной, ее государственным аппаратом и промышленностью, вызывала крайнее раздражение. Они тогда считали это только костью, бросаемой советской властью черни для оправдания диктатуры. Между тем, в действительности, эта форма втягивания масс в государственные дела положила начало той «общественности», которая в наше время позволила таким истинным демократам, как Сидней и Беатриса Уеббы, рассматривать Советскую Россию как демократию, несмотря на диктаторские методы политического управления страной. В первой из вышеприведенных статей Ленин писал:«В нашей Советской республике социальный строй основан на сотрудничестве двух классов: рабочих и крестьян, к которому теперь допущены на известных условиях и «нэпманы»,то есть буржуазия. Если возникнут серьезные классовые разногласия между этими классами, тогда раскол будет неизбежен, но в нашем социальном строе не заложены с необходимостью основания для такого раскола, и главная задача наша состоит в том, чтобы внимательно следить за обстоятельствами, из которых может вытечь раскол, и предупреждать их, ибо в последнем счете судьба нашей республики будет зависеть от того, пойдет ли крестьянская масса с рабочим классом, сохраняя верность союзу с ним, или она даст «нэпманам», то есть новой буржуазии, разъединить себя с рабочими…; Ленин, по своей теории, не признавал равноправия даже за двумя основными классами Советской России, рабочими и крестьянами, и считал, что рабочий класс должен опекать крестьянство, партия должна опекать рабочий класс, а Политбюро должно контролировать партию. Но, в этих рамках, Ленин считал необходимым в максимальной степени втягивать массы в дело управления страной и развивать их политическую сознательность путем привлечения их к систематическому контролю государственной машины. Ленин всегда подчеркивал, что сложность положения Советского государства заключается в том, что мелко буржуазное крестьянство количественно преобладает в стране над рабочим классом - активным элементом революции. Тем не менее, он считал, что советская власть должна быть властью рабоче-крестьянской, и что рабочий класс, приняв на себя руководство страной, всегда обязан помнить об особой социальной сущности крестьянства и не должен допускать эксплоатации его, даже во имя укрепления социалистического, то есть рабочего сектора страны. Наоборот, необходимо, чтобы крестьянство почувствовало положительные стороны нового строя. Во имя этого Ленин стремился привлечь и более инертную массу беспартийного крестьянства к контролю государственного аппарата и к работе по управлению страной. Все эти факты помогают уяснить то явление, что советская диктатура, хотя и суровая, как и всякая другая диктатура политического характера, все же существенно отличается от последних именно тем, что она не является самоцелью, а лишь средством для скорейшего достижения настоящей цели - блага народного большинства. Ленин ставил теоретически определенные границы советской диктатуре, и переступание этих границ в деле управления государством считалось «неувязкой и недочетом самого аппарата»... … Когда вспоминаешь облики творцов русской революции - как их приходилось наблюдать в повседнневном общении с ними, в обстановке напряженной работы, - то невольно, по аналогии, сравниваешь их с деятелями Великой французской революции. В частности вспоминаешь того же Робеспьера, который дал миру идеи свободы, равенства и братства в теории, а в своей политике, направленной на осуществление этих идей, часто нарушал эти основные принципы демократии. Я не собираюсь подымать здесь вопрос о роли личности в истории и вовсе не думаю, что ход событий того или иного периода определяется умением или неудачами руководителей, державших власть в своих руках. Мы живем в эпоху, когда массы заменяют единицу - как бы значительна эта единица ни была. Недаром в наше время памятники воздвигаются не полководцам, а «неизвестному солдату». Но, принимая положение о незыблемости, в основном, исторических процессов и признавая, что массы являются решающим фактором в развитии событий, - нельзя, однако, отрицать того, что в каждый данный момент существуют реальные альтернативы, когда ум и воля побеждают безволие и нерешительность, когда отдельные вожди оказываются способными правильно оценить политическое положение и дать соответствующее направление стихийному движению. Историческое значение большевиков заключается именно в том, что у них хватило решимости взять в свои руки судьбы страны, овладеть стихией и довести революцию до ее логического конца. Осуществляя эти цели, коммунисты, несмотря на весь диктаториальный характер своей власти, считали себя и действовали, как выразители воли народа. Ленин, в котором сочетались ум, воля и характер - необходимые качества вождя - понимал ээто лучше всех. Его фраза:«если я, во имя блага большинства, подчиняю массы моей воле, то я прав, ибо я лично не преследую своих интересов, а делаю это для блага большинства» является ключом к его партийной и политической тактике. Ленин был цельным, точно вылитым из одного куска, человеком, когда вопрос касался революции. Он верил, что история предназначила его для создания новой России, согласно теории Маркса и Энгельса, и он шел без раздумья и сомнений к этой цели, для достижения которой все средства были хороши. Он был убежден, что все здоровые элементы страны с ним, и поэтому, вероятно, с такой легкостью наполнял тюрьмы теми, кто осмеливался критиковать новый строй. В этом, пожалуй, основная разница между Лениным и Сталиным: первый не прощал критики основных принципов коммунистического строя, а второй, считая себя олицетворением режима, видел изменника в каждом, кто был против него, Сталина. Но эта вера в собственную миссию давала возможность и тому, и другому постоянно менять тактику, двигаться резкими скачками и удивлять мир неожиданными сюрпризами, которым, впрочем, они всегда находили принципиальное обоснование у Маркса. О непримиримости, фанатичности и жестокости большевистских вождей, безжалостно сметающих со своего пути все преграды, было много сказано и написано. Но гораздо меньше внимания было обращено на мотивы их действий и на характер их тактики. А, между тем, это объясняет очень многое. Я бы не хотел, однако, чтобы моя попытка продумывания этих явлений была истолкована в том смысле, что я в какой-то мере оправдываю, например, ту жестокость и ту историческую несправедливость, которая была совершена по отношению к «головке» коммунистической партии, то есть к «птенцам гнезда Ленина». Большинство жертв этой расправы я знал лично, в течение многих лет был в постоянном контакте с ними и привык считать их честными и бескорыстными революционерами. Хотя поведение некоторых из них стоило мне многих тяжелых дней и бессонных ночей, во время моего конфликта с ГПУ, о котором я рассказывал выше, я и теперь не могу допустить мысли, что они продали себя врагам России за 30 серебренников. Я скорее готов объяснить совершившееся тем, что революция имеет свои законы, и среди них один из наиболее неумолимых тот, что она пожирает собственных детей. Говоря о тактике большевиков, приходится подчеркнуть, что с самого начала своей деятельности советские вожди отличались большой гибкостью в лавировании и умением, когда нужно, эволюционировать. Основная идея Ленина заключалась в том, что, хотя революцию нельзя создать, но каждую революционную ситуацию можно углубить и расширить. После ликвидации самодержавия Россия оказалась на буржуазном этапе революции, но коммунисты считали, что, развязывая присущие революции потенциальные возможности, ее можно превратить в социалистическую. Эту задачу они и стремились осуществить. Переход на новую стадию представлял огромные трудности. Движение не могло быть прямолинейным. Неизбежны были отступления и зигзаги, но все определялось и освящалось конечной целью. Советские вожди прошли, например, в хозяйственной области очень трудный путь от утопии к действительности. Они шли ощупью, учились на ошибках, совершали много нелепого, ударялись в крайности, как Ларин, но постепенно отказывались от эксцессов, преодолевали путаницу, побеждали хаос первых лет революции. Для многих большевики и в настоящее время - теоретики и фанатики, но при этом забывается то, что двадцать пять лет управления государством и хозяйством не могли пройти бесследно. Столкновение с жизнью вырабатывало из многих большевиков, былых утопистов, тех практических, деловых и реалистически настроенных людей, в которых теперь превратились очень многие из руководителей Советской страны. Те, которые не умели приспособиться к этому процессу, были безжалостно выброшены за борт. Кроме того, большевики с самого начала своего владычества применяли тот метод, который так ярко развернулся в военной области во время настоящей войны. Уже задолго до Гитлера коммунисты поняли, что и в политике позиционная война канула в вечность, что она должна быть заменена борьбой, основанной на движении и диверсии, и что задача атакующего - прорваться вглубь и занять стратегичесские пункты в тылу у противника. Только Ленин мог решиться, во имя дальнейшего продвижения революции, разогнать Учредительное Собрание, которое всем нам - русским интеллигентам - казалось конеччным пределом освободительных устремлений. Ленин не боялся того, что в этом случае он, быть может, - как думали многие - играет на руку реакции, ибо он верил вв силы революции. В ленинскую эпоху власть в Кремле походила на осажденную крепость, в которой Ленин, в качестве революционного стратега, вырабатывал свою тактику. В каждый данный исторический момент, учил Ленин, необходимо выделить то основное звено, которое является решающим фактором в развитии событий. Так, например, Третий Интернационал был создан с целью прорыва в тыл противника. С этой же целью Ленин одобрил подписание германо-советского договора в Рапалло, хотя все недоумевали, почему нищая Россия договаривается с обедневшей Германией, притом в условиях, когда, казалось, обе страны не могут принести никакой пользы друг другу. По тем же соображениям Ленин выдвинул концессионную политику, вопреки оппозиции профсоюзов, считавших ее изменой коммунизму и не понимавших, что концессии должны служить приманкой и посеять рознь среди капиталистических государств. По вопросу о концессии на Камчатке Ленин так и сказал, употребляя военную терминологию:«Это есть глубокая диверсия в тылу у нашего врага». Все компромиссы и зигзаги большевистской внешней политики всегда были подчинены основной цели данной эпохи. Договоры с буржуазными державами, участие в Лиге Наций, сближение с тем или иным демократическим или диктаторским правительством, вплоть до советско-германского пакта 1939 года - все это «маневренная война», диверсии и движения, тактические приемы, продиктованные «реализмом», - правда, нередко граничащим с цинизмом. Гибкость и оппортунизм этой политики объясняются, в конечном счете, умением коммунистов приспособляться к меняющимся обстоятельствам, их глубоким убеждением, что все средства хороши для достижения намеченного задания, если это последнее диктуется интересами революции. И сейчас, во время войны с Германией, главную роль в политике советской власти играет основная цель - разбить Гитлера и освободить советскую территорию от врага. Этой цели подчинено все остальное: ради нее возможны всяческие уступки, отступления, сдача в архив некоторых коммунистических лозунгов, даже ликвидация Коминтерна и многое, многое другое. Такая же гибкость отличала советскую власть и во внутренней политике. Большевики не остались такими твердокаменными, какими они были в 1918 году. Они менялись с каждым годом и все больше отходили от чисто теоретических и непримиримых позиций партийной доктрины. Коммунистические правители безусловно оставались верны основным партийным принципам и даже сохраняли старую терминологию, по-прежнему оправдывая все извилистое начертание «генеральной линии» ссылками на Маркса и Ленина; но на практике они шли на компромисс с жизнью и проделывали огромную политическую и социально-экономическую эволюцию, которая и не снилась тем, кто в 1917 году захватил в России власть во имя коммунистической революции. Однако, было бы ошибочно объяснять это их беспринципностью, их хождением в Каноссу». В действительности, большевистские вожди 1944 года - верные ученики Ленина. Обычно полагают, что эволюция коммунистов - дело последних лет и что она совершилаась почти исключительно под влиянием Сталина. Но это неверно. Уже в самом начале своего существования коммунистический Кремль делал уступки жизни. Надо сказать правду: социальная революция в духе Маркса была похоронена Лениным в момент установления НЭП'а. Поэтому, вероятно, Ленин так яростно атаковал всех тех, кто осмеливался называть вещи своими именами… В эпоху гражданской войны - вопреки марксистской теории - был выдвинут лозунг блока крестьян и рабочих против остатков буржуазии. Затем большевики попытались опереться на крестьянскую бедноту и рабочих против крестьянина «кулака». А непосредственно после этого, объявив передышку во время НЭП'а и развязав в известной мере частную хозяйственную инициативу, власть стала опираться на «середняка» и начала обуздывать зарвавшуюся «бедноту». В следующей стадии власть повела борьбу за колхозы. Это была попытка Сталина спасти «социалистический участок» народного хозяйства за счет крестьянства, то есть именно то, против чего предостерегал Ленин. В этой политике власть опиралась на поддержку рабочего класса, армии и той части крестьянства, которая целиком приняла новый режим и сочувствовала идее коллективизации, как единственной мере спасения этого режима. Индустриализация проводилась в период, когда победила идея строительства социализма в одной стране, и советское правительство фактически отказалось от ставки на мировую революцию. В это время власть стала опираться на специалистов, на трудовую новую интеллигенцию и на квалифицированных рабочих, а также на создавшийся в 1925-1929 гг. аппарат советских чиновников. Наконец, позднее, нынешний вождь Советской России открыто заявил, что ставит ставку на «беспартийных большевиков», и, разметав или уничтожив старую коммунистическую гвардию и задушив и левую, и правую оппозицию, стал опираться на молодежь. Эта молодежь, не знавшая старого режима и воспитанная в условиях революционного времени, вышла из среды рабочих и крестьян и искренно чувствовала себя хозяином молодой, богатой и быстро развивающейся страны. Характерно, однако, то, что, при всех изменениях своей политики, советская власть неизменно стремилась к тому, чтобы расширить свою базу и обрести поддержку все более и более широких масс населения. В этом, может быть, заключается и основной парадокс природы этой власти, который многих ставит в тупик и порождает нескончаемые споры. По своему характеру и по своим методам большевизм является, конечно, диктатурой и не укладывается в рамки общепринятого понятия демократии. Но, с другой стороны, диктатура эта обладает совершенно особыми свойствами. Она ищет опоры в массах, она опирается на широкие слои этих масс, и она действует не только от их имени, но и ради их блага. В других тоталитарных странах диктатура является самоцелью, увенчанием всего государственного здания, и находит свое выражение в единоличном вожде -«фюрере», «дуче». В учении Ленина диктатура есть лишь временное зло переходного периода, необходимое для обеспечения интересов трудящихся масс, пока новый режим народовластия оформится и окрепнет настолько, чтобы быть надежно защищенным от врагов внешних и внутренних. В настоящее время мы нередко высказываем сожаление, что одна из самых идеальных по строю демократий - Веймарская республика послевоенной Германии - не была укреплена, хотя бы исключительными мероприятиями, против натиска реакции,- и таким образом не была предотвращена .катастрофа национал-социализма… Теперь, у «стены плача», многие искренние демократы признают, что германский народ не был готов к приятию и защите демократии и что нужна была какая-то особая сила - хотя бы даже временная «диктатура» - для того чтобы сделать эту демократию более устойчивой и боеспособной. Но кто решится утверждать, что и русский народ был бы готов ко всемерной защите своей новой жизни и своих социальных завоеваний, - не будь того временно-диктаторского строя, который теперь так энергично борется с врагом всемирной демократии? И не будь этого русского звена, кто знает, где был бы теперь этот мир демократии?.. Поскольку в концепции большевизма диктатура есть лишь временная мера, - сейчас можно быть настолько оптимистом, чтобы надеяться, что трудящиеся массы СССР, показавшие во время войны свою политическую зрелость и свою неразрывную связь с советским строем, смогут после войны взять в свои собственные руки свои политические судьбы. Можно также думать, что вожди Советского Союза поймут необходимость такой эволюции советского режима. Кажется даже, что первые ласточки появились уже на горизонте… Своеобразие советской системы приводит к постоянной путанице при попытках формального и теоретического определения советской власти. Тот, кто в первую очередь замечает ее связь с массами и ее заботу о массах, готов назвать ее демократией. Тот же, кто прежде всего видит ее диктаторскую практику и систему господства одной партии, с возмущением отрицает ее демократичность и клеймит советский строй, как худший вид политической тирании. Каждая из этих точек зрения видит лишь одну сторону действительности и не желает признать, что фактическое положение гораздо более многообразно и сложно, чем это предусмотрено в учебниках государственного права и в социологических теориях. В Советской России мы видим социальную демократию в рамках политической диктатуры. Москва всегда действовала именем народных сил и при их помощи вела борьбу с теми группами или классами, которых она считала врагами советского строя. Вожди революции в Кремле отлично знали, что государственные деятели должны иметь инстинкт собаки, которая бежит впереди хозяина, но постоянно на него оглядывается и ловит его взгляд, чтобы определить, куда ей итти. Они очень внимательно прислушивались к тому, что делалось в народных низах, и старались нащупать связь с народной общественностью. Неправильно утверждение, будто в Советской России нет никакой самодеятельности масс. Она существовала даже в самый жестокий период советской диктатуры. Уже самый лозунг, провозглашенный Лениным в 1917 году:«Вся власть советам! власть на местах!» - вызвал к жизни новую общественность. Хотя он и проводился в жизнь во имя отвлеченной идеи коммунизма, но фактически он помог сгруппировать аморфную массу в ряд ячеек и организаций, которые постепенно начали заниматься самыми кровными нуждами населения. Все эти губкомы, уездкомы, завкомы, комитеты бедноты и прочие организации первого периода революции были формами социальной самодеятельности. Принадлежность к коллективу сделалась жизненной необходимостью. Для того чтобы получить пищу, проехать по железной дороге, достать дрова, обратиться к врачу, пойти в театр или отправить сына в школу, каждый советский гражданин должен был иметь свидетельство своей принадлежности к какому-нибудь коллективу или ячейке. Естественно, что все старались войти в то или иное объединение, признаваемое властью - тем более, что в то время руководители этих объединений не назначались сверху, а выбирались всеми их членами. Очень многие и на участие в коммунистической партии смотрели не с точки зрения политических верований, а учитывая возможность практического использования своего членства. В первые годы революции ценность денег исчезла вместе с товарами. Зато огромную ценность приобрела бумажка, на которой красовался оттиск какой-нибудь каучуковой печати. Без бумажки, пропуска, разрешения, свидетельства, мандата - ничего нельзя было сделать, ничего нельзя было получить. Даже знаменитые «мешочники» - отправлявшиеся в далекие районы страны в поисках хлеба, который они приобретали в обмен на вещи, привезенные из города - всегда были вооружены разными свидетельствами от «организаций» и создавали всякого рода «объединения». Вся эта самодеятельность сосредоточивалась в тот период вокруг вопроса о хлебе насущном, - тем не менее она приучала население к инициативе и общественной работе. Вместо принципа божественности власти и неизбежной пассивности бесправных и покорных государевых верноподданных, Кремль выдвинул идею «рабоче-крестьянского правительства», являющегося эманацией народа и требующего от этого народа постоянного и активного участия в хозяйственной и социальной жизни страны. Конечно, вначале вся эта самодеятельность была весьма «корявой» и принимала порою уродливые, а порою и комические формы, соответственно низкой ступени тогдашнего умственного и культурного развития народных масс. Я рассказывал выше, например, об «изобретателях» или о вмешательстве различных местных органов в сложное дело управления лесным хозяйством. Вместо старых бюрократов с их внешним лоском, во главе учреждений появились грубоватые и неотесанные люди. В производстве на командных должностях очутились механики-самоучки и неопытная молодежь, на которых с презрением смотрели кадровые инженеры и представители прежних промышленников. Вообще, в первые годы революции произошло сильное понижение культурного уровня аппарата власти и управления. Всем заправляли почти безграмотные выходцы из народа, во всех областях жизни, включая и искусство, прежнее качество уступило место количеству. И должно было пройти некоторое время, прежде чем это количество привело к новому, более высокому качеству, на более широком социальном базисе. И в управление страной, и в производство втягивались миллионы, на местах создавались различные объединения, выражавшие самобытную советскую общественность и даже защищавшие ее от нажима центральной власти. Это огромное общественное движение, начавшееся в годы революции и гражданской войны и все более развивавшееся в дальнейшем, подготовило тот поражающий подъем масс, свидетелем которого мы являемся в годы отечественной войны. Гражданская война ввергла страну в ужасающий хаос, но одновременно она вовлекла десятки, а, может быть, и сотни тысяч русских людей в активную борьбу за лучшие судьбы родины. В гражданской войне многие прошли суровую, но очень полезную школу: научились судить о вещах не только с высоты своей маленькой колокольни, а с государственной точки зрения, приобрели военный и административно-хозяйственный опыт, привыкли подчиняться, но и приказывать. Отсюда, из этой школы, вышли нынешние знаменитые полководцы Красной Армии, прославившиеся на весь мир, как, например, маршал Семен Тимошенко и другие. Из этой же школы вышли замечательные строители советского хозяйства. Мне лично привелось работать с одним из таких хозяйственников, которого вырастила революция. Имя его было - Чубарь. Простой рабочий, украинец, он оказался во главе Гомзы - объединения тяжелой промышленности, где мне приходилось работать в качестве спеца. Затем он был членом президиума ВСНХ, а потом и председателем Совнаркома Украины. Он всегда вызывал во мне восхищение, и я питал к нему глубокое уважение за то, как он действовал, распоряжался… Любой администратор крупного капиталистического предприятия с очень большим жалованием многому мог бы поучиться у него. Он никогда не заискивал, но и не издевался над спецами. Все его замечания и указания показывали глубокое понимание вопроса. Говорил он деловито, спокойно, хотя и выражался на смешанном полурусском, полуукраинском языке. И сколько таких больших и малых Чубарей обнаружилось на необъятных просторах России! Все они, с чисто крестьянским упорством и настойчивостью, овладевали своим делом, сочетая привычную трудоспособность с исконной русской «смекалкой», интуитивным чутьем свежего, молодого ума. Они вносили в свою работу не только энтузиазм, но и глубокое понимание народной массы, из которой они сами вышли. Мне приходилось также иметь дело со многими хозяйственниками и администраторами, приезжавшими с окраин по делам в столицу. Они все время говорили и думали только о своем деле, о конкретных нуждах и заботах своих учреждений. Когда же я иногда затрагивал вопросы общей политики, они многозначительно, но уверенно отвечали, что это, мол, не наше дело: об этом Ильич думает… Не надо забывать, что основным признаком, отличающим революцию от простого политического