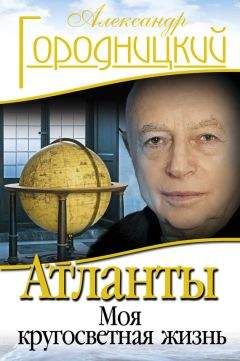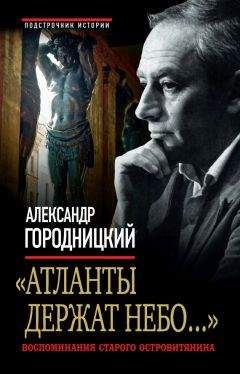Сергей Чупринин - Вот жизнь моя. Фейсбучный роман
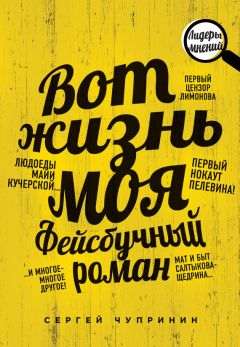
Помощь проекту
Вот жизнь моя. Фейсбучный роман читать книгу онлайн
Скажи мне, что за книги у тебя на полках стоят, и я скажу, одной ли мы с тобой крови. В нашем поколении этот критерий срабатывал безошибочно. И кто из нас, придя в квартиру к полузнакомым людям, не скользил взглядом – хоть бы и расположившись уже за пиршественным столом – по разнорослым книжным рядам? Что-то отмечая с чувством избирательного родства, и у меня, мол, такие же дома, а на чем-то тормозя даже и с ревностью: где же это они раздобыли то, за чем я давно и безуспешно охочусь…
Вот позвала как-то меня, еще аспиранта, к себе в гости дальняя родственница моей жены. Она тогда продавщицей работала в «Синтетике» на Калининском – ну, москвичи, кому за 50, даже за 40, этот магазин сразу вспомнят и поймут, что с дефицитом у нашей милой Гали проблем не было.
И действительно: в спальне этажерочка для себя, с Пикулем[114], Юлианом Семеновым[115], зарубежными детективами – это, теперь-то понятно, взамен дамских романов, которых на русском языке тогда еще не было. А в гостиной… Ну, глаз не отвести: два, даже три, может быть, полированных шкафа, а в них – всё, что филологическая душенька пожелать может. И «синий» Мандельштам, и «агатовая» Ахматова[116], и академический Достоевский, и альбомы – то Дега, то Чюрленис, – и Эйдельман[117], и Аверинцев, и Лотман…
И все томики не потрепанные, как у меня дома, а чистенькие, с иголочки. Спрашиваю осторожно: зачем это тебе? «Ну как, – отвечает. – Я ведь замуж выйду? Выйду. Дети появятся? Само собою. А как вырастут – у них уже и библиотека будет. Так что спасибо скажут».
На скучном языке такая заготовка книжек впрок называется, наверное, отложенным потреблением. Сейчас, дескать, мне не до книг, зато вот выйду на пенсию и тогда уж начитаюсь. Или детям, действительно, пригодится, внукам. И страшно подумать, какие фантастические тиражи оседали, помимо государственных библиотек, по домам у такой вот Гали, у такого, к примеру, Петра Ивановича. Не решусь сказать, была ли наша страна самой читающей в мире. Но вот то, что нигде, наверное, книжное собирательство не было столь престижным, столь прочно вошедшим в обычай, как у нас, – это уж точно.
А Галя… Много лет мы с ней не встречались, поэтому я и не знаю, говорят ли нынче ее выросшие дети спасибо за шкафы, набитые когдатошним дефицитом. Зачем гадать, если с ума нейдет недавний разговор с одним моим старшим товарищем, который, собравшись вдруг помирать, начал спешно отдавать старые долги, приводить в порядок архивы. И надо, говорит, книги еще куда-то, пока я в силах, пристроить, вон их сколько за жизнь накопилось. «Ну что ты торопишься, – сержусь я. – Во-первых, и сам еще, Бог даст, почитаешь. И дети твои в конце концов сами разберутся». – «Э, – отмахивается он от меня, еще, с его точки зрения, молодого и глупого. – Дети-то, конечно, всё выбросят. Но им неловко это будет делать, стыдно как-то перед памятью обо мне. Уж лучше я их от этой неловкости и этой докуки сам избавлю».
* * *И опять аспирантские, 70-е. Самиздат как один из трех (наряду с библиотекой ИМЛИ и толстыми литературными журналами) источников и составных частей самообразования. И зовут меня, помнится, на публичную лекцию в Институт, тоже помнится, стали и сплавов.
В зале – битком. А перед собравшимися – Григорий Соломонович Померанц[118], чье имя я, к стыду своему, раньше не слышал.
К стыду – поскольку именно та лекция многое мне – и в жизни и в себе самом – объяснила. Речь шла о процессе европеизации неевропейских стран, что, во-первых, вписывало Россию, лишая ее права на исключительность, в общий цивилизационный поток, а во-вторых, давало простое объяснение нашего едва ли уже не трехсотлетнего дуализма: и в Европу, изнемогая, тянемся, и Европою никак стать не можем. Ибо Европа, – говорил Григорий Соломонович, сам в Европе никогда, кажется, не бывавший, – это, при всех региональных и прочих, вплоть до личностных, различиях, есть царство цивилизационной однородности, мир единых стандартов жизни и общественного консенсуса в жизнепонимании. Тогда как Россия, подобно любой другой неевропейской стране, ставшей на путь европеизации, клочковата или, как говорил Померанц, лоскутообразна: в одной квартире могут жить интеллектуалы высшей европейской пробы, а в соседней – ну, вы понимаете кто.
Насчет квартир, может быть, еще и метафора. А вот то, что в десятке километров от космодрома в Плесецке наши русские люди по-прежнему живут и думают, как при Василии II Темном, известно каждому, кто прочел рассказы Галины Турченко в «Знамени» (2014, № 10) или посмотрел фильм Андрона Михалкова-Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».
Естественно, что, став, спустя десятилетие, одним из руководителей «Знамени», я первым делом позвонил Григорию Соломоновичу и попросил разрешения опубликовать ту давнюю лекцию в журнале. «Почему именно ее? – удивился Померанц. – В ней многое, мне кажется, устарело».
Разве?
Мне-то кажется, что ключ лоскутообразности и сейчас многое открывает. И в нынешнем состоянии страны. И в таких, как я сам, людях: вроде бы и продвинутых, либералах и «западниках», как раньше говорили, по убеждениям, но живущих с постоянной оглядкой на свое детство и на свою родню, знать ничего не знающую ни о правах человека, ни о том, о чем спорят на страницах хотя бы даже и «Знамени».
Помните, как у Шукшина: одна нога в лодке, а другая все-таки на берегу…[119]
* * *Кандидатские мы защищали вместе с Владимиром Ивановичем, тогда еще Володей, Новиковым[120] он по русской эпиграмме, я по русскому натурализму. Вместе и банкет для членов Ученого совета заказывали. И не где-нибудь, не как-нибудь, а в шикарном ресторане «Прага», в отдельном кабинете. Что по цене было тогда вполне доступно даже и понаехавшим в Москву вчерашним аспирантам.
Ну, банкет как банкет. Один из моих тогдашних оппонентов Владимир Иванович Гусев[121], теперь-то уже более четверти века со мною не здоровающийся, вошел в предание тем, что зубами разгрызал один стеклянный фужер за другим. Сановный член-корреспондент Академии наук Владимир Родионович Щербина[122] время от времени подсказывал, чтобы закуску ему подкладывали поаппетитнее, а напитки подливали подороже. Шармер Ульрих Рихардович Фохт норовил за коленку ухватить случайную аспирантку, неосторожно усевшуюся с ним рядом. Остальные же почтенные члены почтенного совета явно томились, отбывая положенный ритуал. Пока…
Пока вдруг не выяснилось, что в соседнем кабинете гуляют членши Комитета советских женщин[123]. «Хорош бабец», – заглянув туда, сказал один глубокоуважаемый филолог другому – и понеслось! Оба банкета как-то сами собою перемешались, и таких отчаянных, таких половецких плясок, как в тот вечер, я, боюсь, уже никогда больше не увижу. Одна печаль: Валентина Терешкова, заправлявшая советскими женщинами, сразу же незаметно удалилась, как и полагается руководительнице высокого ранга. Что профессоров, конечно, огорчило, когда же это еще удастся пройтись с космонавтом в знойном танго, зато подопечным Валентины Владимировны позволило пуститься во все тяжкие. Или почти во все.
Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. В девяностые, по случаю уже докторской защиты, никакого загула и близко не было. Тихонько отужинали с оппонентами, книжки друг другу подарили с трогательными надписями – вот и вся недолга. То ли с деньгами было уже не слава богу, то ли, еще скорее, кураж повыветрился.
* * *Защитив в ИМЛИ кандидатскую диссертацию о русском натурализме конца XIX – начала XX века, выпустив однотомник, а затем и трехтомник Петра Дмитриевича Боборыкина, я какое-то время с гордостью числил себя ведущим (да что ведущим – единственным в мире!) специалистом по творчеству этого мало кем читанного писателя.
Пока, годы были еще глухие, не раздался телефонный звонок и меня не попросил о встрече какой-то немец, тоже, оказывается, что-то там раскопавший в драматической жизни и судьбе Пьера Бобо. Так что уселись мы, как сейчас помню, в редакции «Литературной газеты», и гость из ФРГ выложил на стол свою монографию – на чистом немецком языке и толстенную-претолстенную, с бездною, надо думать, новонайденных фактов, смелых открытий и глубоких предположений.
Я этим триумфом германской филологии был, разумеется, сражен, но разговор поддерживаю и, применительно к какой-то повести Петра Дмитриевича замечаю, что она, де, полемична по отношению к «Крейцеровой сонате». Мой собеседник, вообще-то сильный в интеллектуальном пинг-понге, этот ход почему-то пропускает. Ну и ладно. Я пускаюсь в сопоставления нашего общего героя с Лесковым, с Помяловским, и тут ученый немец, безо всякого смущения, говорит, что этих писателей он не читал[124]. Зачем ему, он ведь специалист по Боборыкину.