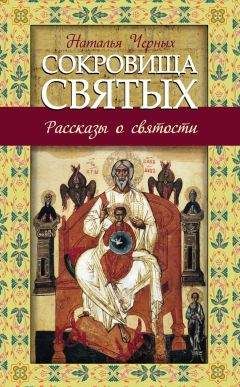Игумения Феофила (Лепешинская) - Плач третьей птицы: земное и небесное в современных монастырях
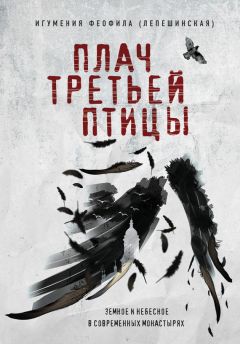
Помощь проекту
Плач третьей птицы: земное и небесное в современных монастырях читать книгу онлайн
Тенденциозный подбор цитат может создать впечатление, что епископ Игнатий, разочаровавшись в современном ему монашестве, признавал ошибочным юношеский выбор, порицал монастыри в принципе, а их быт считал лишь объектом для критики. Но это совершенно не так! Святитель всем сердцем любил иноческие обители: «Воинство духовное! Да снизойдет на вас благословение неба за то, что вы возлюбили небо!.. Братия! Благую часть вы избрали! Не озирайтесь вспять, не привлекайтесь снова к миру… держитесь этого пристанища!»{59}. Сам он пребыл в монастыре до смерти, хотя, как аристократ по рождению и епископ на покое, вероятно, мог избрать для жительства что-нибудь более комфортабельное, уж, конечно, не устрашившись покинуть «неверную» стезю, если бы посчитал ее таковой.
И нельзя же Оптину, Валаам, Бородино и другие монастыри, высокое значение которых засвидетельствовано современниками и историей, считать лишенными монашеского делания, истлевшими нравственно, бездуховными{60}, основываясь на предпочтении одного мнения; самое восторженное почитание святого не исключает, как известно, его человеческих недостатков, а иногда заблуждений, и почему не признать: епископ Игнатий шел далеко не обычным путем, который, даже зная конечный результат, вряд ли кто порекомендует к повторению: сменил в короткое время несколько обителей, неудовлетворенный то многолюдством, то окружением, то питанием, то климатом; в двадцать пять лет, не пройдя школы послушания, стал, при вмешательстве сильных мира сего, настоятелем, а затем устремился покинуть вверенное ему стадо по причине наветов и неприязней.
В былые времена при выборе монастыря думали не об удобствах; искали, где бы жестокая жизнь была, подольше службу выбирали, испрашивали воли Божией…
Автор жизнеописания объясняет «сословными свойствами, вплоть до кастовой отдельности», такие черты его характера, как всегдашнее стремление к самостоятельной деятельности по собственным убеждениям и мыслям, независимо от постороннего влияния{61}. В самосознании духовно гениальной личности заключена разгадка его особливости, одиночества и неприступности для понимания. Здесь же причина бесплодности поиска им старцев: их нет, потому что души созвучной, конгениальной и в то же время являющей желательное в наставнике неоспоримое превосходство и впрямь не обретается.
Конечно, святой владыка, благодаря своей образованности и культуре, яснее других понимал несоответствие наличной монастырской действительности святоотеческому идеалу: он знал покаяние и ощущал это несоответствие в себе самом; его чуткая, нежная, тонкая душа страдала и плакала от боли. О. Георгий Флоровский указывает на сопротивление святителя Игнатия мистическим влияниям Александровской эпохи, проникнутой прелестной, мнимой, не трезвой, торопливой духовностью, отравленной гордыней; но странным образом черты той же эпохи отразились и в его личном облике: этим, может быть, объясняется вся резкость его отрицаний: борьбой с самим собою{62}.
Тот же автор приводит свидетельство иностранца, путешествовавшего по России и побывавшего в 1840 году в Сергиевой пустыни. В. Пальмер цитирует резкие критические замечания настоятеля архимандрита Игнатия по поводу лицемерного православия и даже мертвости Церкви, сохраняющей лишь хорошую внешность, символы и обряды. Но обвинения касались лишь белого духовенства, зараженного духом еретического либерализма{63}. Святитель, несомненно, всегда отдавал предпочтение монашеству, верному святоотеческой традиции, и, «приближаясь к концу земного странствования», недвусмысленно заключал: «Духовным благом, объемлющим и совмещающим в себе прочие блага, называю монашество, к которому я призван с детства чудным призванием и неизреченною милостью»{64}.
Аще кто не возненавидит…
Побег мой произвел в семье моей тревогу…
…Кто поносил меня, кто на смех подымал,
Кто силой воротить соседям предлагал;
Иные уж за мной гнались; но я тем боле
Спешил перебежать городовое поле,
Дабы скорей узреть – оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата.
Святого Даниила Столпника ребенком привели в монастырь и попросили постричь родители. Получили родительское благословение на монашество преподобный Арсений Комельский и святитель Питирим Тамбовский. Но несравнимо чаще уходили тайно, вопреки родительской воле – преподобные Феодосий Печерский, Александр Свирский, Феодосий Сийский. И в наши дни случается: мальчик Саша, имея семью, совсем индифферентную к вере, скрылся из дому и вступил в монастырь. Мать, пока разыскивала его, не надеясь обрести жива, столько наплакалась и настрадалась, что начала понемногу молиться и, встретившись с сыном, уже не настаивала на его возвращении домой.
Без конфликта не обходится, кажется, никогда. Уже Киево-Печерский патерик повествует о смущении, которое преподобный Антоний претерпел за пострижение отпрыска знатного боярского рода: разъяренный отец, сорвав с новоиспеченного инока монашеские одежды, повлек его в свои палаты{65}. Отец Иоасафа Белгородского не хотел его отпускать, даже имея извещение свыше, что сын станет архиереем. Семейные трения претерпел и святитель Игнатий (Брянчанинов).
А одного молодого человека, уже в наши дни, забрали из монастыря; он по врожденной тихости нрава не упрямился, молча плелся как на заклание; достигли станции, сели в вагон, поезд тронулся; тут юноша вышел из купе; родители не обеспокоились: ведь не противился, да и вещи все здесь; а он спрыгнул на ходу и пошагал назад в обитель.
Мать преподобного Феодосия Печерского нещадно колотила любимое дитя, найдя в монастыре после долгих поисков, – но шпионов, чтоб выследить, и бандитов, чтобы выкрасть его, не нанимала и в суд, народный, а затем в Страсбургский, не подавала, не то что любящая мамаша из новейшего времени, научаемая участливыми газетчиками.
Никакие обстоятельства и резоны родителей не убеждают: одна девушка, измучившая семейство легким поведением, каким-то чудом забрела в монастырь, заинтересовалась и решила задержаться подольше; негодование родителей простиралось до самых чудовищных обвинений, оскорблений и устрашений в адрес настоятельницы. Из-за подобных скандалов некоторые игумении вопреки традиции внедряют правило: принимать только при согласии семьи.
Бунтуют не только неверующие; иногда как раз с верующими происходит что-то несусветное: мать будущей игумении Таисии (Солоповой) противилась решению дочери, прибегая к изобретательным козням и падая в обмороки. «Лучше бы мне похоронить тебя в могилу!» – слетало с уст благочестивой христианки. Митрополит Вениамин (Федченков) вспоминал, что его мать в том же случае рукою отца написала ужасное угрожающее письмо; «если есть слово Божие, то бывает и слово бесовское», – заключал владыка.
Случались отречения и другого рода. Преподобный Арсений Новгородский (XVI век) оставил жену через пять месяцев после свадьбы, а через пять лет прислал письмо, в котором утешал родных, обещая встречу в Царстве Небесном. Что совершалось в его душе, когда он удалялся навсегда и, как показывает письмо спустя пять лет, не по причине «смущения от жены»?{66}
Определяться смолоду во всех отношениях удобнее: больше времени впереди, душа, пока не отравлена мирской горечью, не окаменела в грехе, восприимчивее к доброму наставлению и способнее к послушанию.
Подобное происходило всегда, хоть, может, и нечасто: жили-были, семья как семья, и вдруг муж объявляет, что решил уйти от мира; жена поплакала, но согласилась, и разошлись по монастырям, она с дочерью, он с сыном. Он, теперь известный как преподобный Нил Постник, или Синайский, рассказал, чего стоило это расторжение брака. Он записал свое свидетельство кровью сердца, в день, когда считал сына погибшим при нападении варваров, как бы подводя итоги перед лицом смерти: «Знаете, какова разлука для тех, которые единожды навсегда по закону соединены союзом брака, по таинственному смотрению Сочетавшего соделались единым телом… Какую боль причиняет меч, рассекающий тело, такую же причиняет и разлука для ставших единою плотию»{67}.
Бывают разводы ради монашества и теперь; одно время в такую вошли моду, что последовало предостережение Синода к духовникам, поощряющим их. Со стороны трудно судить о побудительных мотивах; иногда брак значит так мало, что отказ от него не требует и малейших борений; в таком случае забытое понятие долга никого не останавливает; но всё же, по-видимому, иногда божественное звание{68} звучит так сильно, так властно: «Сия-то любовь предписывала мне идти в путь, и не мог я противоречить повелевавшей самоуправно…»{69}.