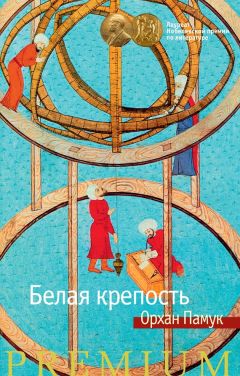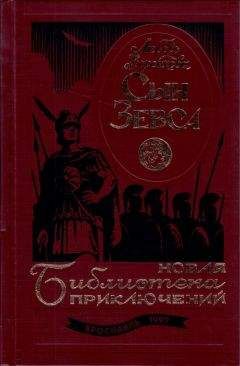Лидия Зиновьева-Аннибал - Тридцать три урода. Сборник
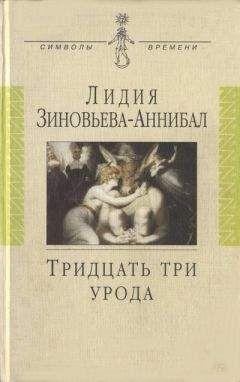
Помощь проекту
Тридцать три урода. Сборник читать книгу онлайн
Подобное рассуждение героя рассказа «Помогите Вы!» отсылает нас к Достоевскому, его «Запискам из подполья». Ведь «Помогите Вы!» — это те же «Записки», вплоть до едва ли не текстуальных совпадений (когда речь заходит о скуке всеобщего умиротворения и благополучия, об анархическом своеволии человека, его всепоглощающей страсти к разрушению). Кроме того, внутренний диалог героя-гордеца, героя-безбожника со своим оппонентом — женщиной, не приемлющей убийства, молящей о гармонии мира, — как бы дублирует диалоги-споры Раскольникова и Сонечки Мармеладовой. Как и у Достоевского у Зиновьевой-Аннибал, «прогресс», «всеобщее счастье» вытравливают в человеке все живое, формируют то «среднее» и «удобное», что обычно и служит фундаментом любого социального устройства, основанного на подавлении личности. А это «усреднение», в свою очередь, заставляет человечество жаждать свободы, свободы любой ценой — даже, по определению Зиновьевой-Аннибал, ценой высвобождения «кладбища» и «зла» — т. е. на путях безбожия и аморализма.
Тень Раскольникова буквально витает над головой и другого героя — безумца, томящегося в тюрьме (или в сумасшедшем доме), из рассказа «За решетку». Он, как и петербургский студент, мучается вопросом о «праве на кровь». Им меч возмездия был обращен против человека ничтожного, отъявленного негодяя. Есть ли оправдание убийству, совершенному «по справедливости»? Может ли ненависть быть созидательной? Каким должен быть закон человеческого общежития — законом любви или законом ненависти, законом всепрощения или законом мести? Ведь не случайно возникает в рассказе имя Каина, но не Каина-убийцы, Каина-предателя, а Каина-мстителя[45].
С Достоевским Зиновьеву-Аннибал сближает и мысль о свободе, той последней, невообразимой свободе духа, к которой всегда будет устремлен человек, и о том «великом хаосе свободы», в который ввергается мир, лишенный Божеских установлений, и человек, не совладавший с волей и не справившийся со свободой выбора. Она отвергает декадентский релятивизм — равнодушие к этической проблематике — и проклинает как раз тот единственный путь, который открывается личности после совершения убийства, после того, как она встала на «сторону зла». Сумасшествие героя рассказа «За решетку» предопределено той «свободой ненависти», в которую он погрузился с упоением и сладострастием. И смерть, становящаяся в таком случае немыслимо желанной, единственно возможной избавительницей от мук, все не приходит и не приходит… И наступает с ужасающей неотвратимостью снова и снова «еще который-то там день», «еще другой день» и «еще день»… и так до наступления невозможного мартобря…[46]Мир закономерно разрушается в сознании безумного.
Но его не удается собрать, ощутить целостно и героине «Электричества», правда, по другой причине. Здесь иное. Не мир рассыпается на кусочки, а душа растворяется в мире, растворяется в ощущениях и сопричастности всему живому и страждущему. Она расстается с телом и обретает, по-видимости, бессмертие. Лирическая героиня рассказа сливается со всем окружающим миром, переселяется в него. Ее душа преодолевает расстояния, разрушает преграды, получая в дар «крылатый и бестелесный полет», обретая способность приобщаться всему сущему. Но все оказывается тщетным, даже измучивающе-опустошающим. Можно коснуться лица, удариться о стены домов, оказаться рядом «со странными и тайными людьми», но так и не проникнуть в их сердца… Писательница даже использует графические возможности листа бумаги и типографского шрифта, интонационное богатство речи, причудливое столкновение несопрягаемых понятий (в чем-то предвосхищая искания кубофутуристов), дабы передать этот «бестелесный полет», это «неподвижное движение быстроты».
Но все же чудо может свершиться! Незначащая встреча, случайный «косящий взгляд» незнакомки, пара пустых фраз о подробностях привычного жизненного ритуала чужого человека — и неожиданно возникает соприкосновение душ. Еще недавно чужой и чуждый человек начинает излучать то магическое тепло, которое связывает со всем миром и, противореча очевидному, не дает погрузиться в отчаяние, согласиться с испокон веку утвержденной «непроницаемостью душ и вещей». Так Зиновьевой-Аннибал удается то гармонично, то в мучительной какофонии сопрячь миры, и вросшие друг в друга, и разъединенные навсегда.
Русская литература начала XX века знала, пожалуй, только одного художника, обреченного на такое пронзительное вселенское сострадание, когда волной сочувствия захватывало даже неодушевленные предметы. «Не за Бога в раздумье на камне, мне за камень, им найденный, больно», — писал Иннокентий Анненский. То же могла повторить Зиновьева-Аннибал, переливающая душу в предметы, раскрывающая их створки, растворяющая их оболочки, истрачивающая себя в этой безмерной, мучительной боли «за друга своя». Кажется, что, по мысли Зиновьевой-Аннибал, преодоление индивидуализма всеохватывающим сочувствием должно было стать рецептом спасения человека и человечества. Но в отрывке «Лондон» писательница показывает, что этого явно недостаточно. «Чрезмерное», «безбрежное» сострадание само по себе в отрыве от чего-то более значительного, весомого, существенного — беззащитно. Оно не исцеляет «мировую скорбь», не помогает избавиться от всевластия зла. Необходимо было другое решение. И оно было предложено в сборнике «Трагический зверинец», явившемся, по выражению Вяч. Иванова, «прочным мостом в будущее»[47].
«Трагический зверинец» был книгой, любимой многими. Его высоко ценила Марина Цветаева. Не без его влияния появились на свет «Небесные верблюжата» Е. Гуро и хлебниковский «Зверинец». И критика в целом приняла сборник благосклонно. Но книгу анализировали главным образом под углом зрения раскрытия детской психологии.
Анастасия Чеботаревская[48] подчеркнула социалистические симпатии автора, заметив, что через все рассказы проходит мотив столкновения «барских» и «человеческих» интересов личности, но при этом выразила сомнение, мог ли девятилетний ребенок «инстинктивно предчувствовать тезисы научного социализма», решительно восставать против «привитых воспитанием и обстановкой традиций», ратовать за «экспроприацию собственности и обязательный восьмичасовой рабочий день». К недостаткам книги она отнесла изображение автором «не того, что было», а «того, как ему представляется бывшее по истечении многих лет». С ней в целом согласился и критик журнала «Перевал»[49], скрывавшийся под инициалами О. Он писал, что рядом с глубоким проникновением в «темный предрассветный мир детской души» мы улавливаем «неискусно измененный голос взрослого человека», имитирующий интонации ребенка. На его взгляд, соединить личное и мировое начала, обнаружить глубину и смысл явления, возникающих индивидуально в каждом опыте, автору помешали некоторая «неустойчивость» в выборе художественных средств, его колебания между существующими в русской литературе художественными направлениями. Эту же мысль развил в своей рецензии Ю. Айхенвальд[50]. «Иное из прошлого освещено светом теперешнего и, так сказать, стилизовано; отдельные порывы и настроения ранних лет поняты… как специфические мотивы нынешней утонченности». В результате «изложение… иногда делается искусственным», но в лучших рассказах все же достигается «несомненная гармония и единство между маленьким объектом и взрослым субъектом поздних воспоминаний», дается «слепок души», одновременно «бурной и буйной» и «таящей в себе глубокую способность к умилению и чистой радости». Еще удачнее эту мысль выразила А. Тыркова (писавшая под псевдонимом А. Вергежский): она сумела соединить «непосредственную жадность ребенка» с «проникновенным, почти мудрым пониманием сорокалетней женщины, много испытавшей, много познавшей и вкусившей от горького, но дарящего кубка страдания»[51].