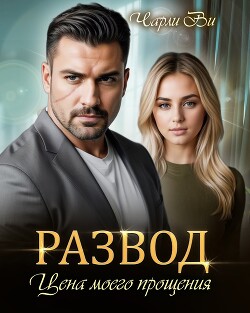Юлиу Эдлис - Антракт: Романы и повести
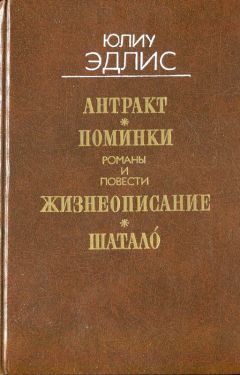
Помощь проекту
Антракт: Романы и повести читать книгу онлайн
«Что ж… — думал Бенедиктов, идя Арбатом к Садовому кольцу, — что ж…»
Я — как человек, разобравший остановившиеся вдруг, единственные свои часы — колесики, маятники, винтики, шестеренки — и бессильный собрать их вновь, заставить их опять отсчитывать время, заставить это время двигаться — вперед ли, вспять…
Вокруг меня все торопятся, спешат, опаздывают, сверяют на бегу часы, у одних они идут вперед, у других отстают, и лишь мое время — остановилось, застыло.
Может быть — но я в этом не посмею признаться даже самому себе, — может быть, я уже не люблю тебя?..
13
Билет был куплен на десятое мая, самолет улетал из Шереметьева в семь двадцать утра, багаж надо было привезти на таможенный досмотр накануне.
Из квартиры вывезли мебель, книги, люстры, холодильник, телевизор, деньги за все были получены, он оставил себе ровно столько, чтобы съездить на могилу мачехи, остальное отдаст сестре. С друзьями он распрощается накануне отъезда, он никого не будет звать, кто захочет, и так придет, это будут не первые проводы в мастерской Борисова. «Тризна» — называл их Лева.
Он прилетел в Одессу в среду, сестра была на работе, и потом у нее еще были уроки в вечерней школе, она не могла пойти с ним на кладбище.
Стоял тихий, безветренный день; притомившись торопливым буйством южного апреля, природа подремывала, набиралась сил перед последним рывком в лето.
Бенедиктов шел крутым подъемом через старую часть кладбища, мимо скособочившихся, замшелых могильных камней, люди, погребенные под этими камнями, давно истлели и рассыпались в прах, истлели и рассыпались в прах и те, кто поставил эти памятники умершим до них, память о тех и о других тоже истлела и стала прахом, вечно лишь время, думал Бенедиктов, лишь жизнь и смерть, лишь неустанное превращение одной в другую. И все-таки имя этому не смерть, а — жизнь.
За годы, что он не был здесь, верхняя, новая часть кладбища так разрослась, что он заблудился. Он хорошо помнил, что, когда хоронили мачеху, между ее могилой и кладбищенской стеной было пустое пространство, желтая глина и песок, но теперь до самой стены тесно стояли новые памятники, огражденные выкрашенной серебряной краской решеткой, некоторые ограды увенчивались жестяными крышами с как бы игрушечными водостоками и коньками, будто мертвецов заперли в тесные домики-клетки, и если бы они и восстали в день страшного суда из своих могил, то все равно не смогли бы продраться сквозь железные прутья, даже трубный глас не освободит их из вечного плена. Бенедиктов кружил и кружил, ступая по чьим-то надгробьям, перешагивая через свежие, не огражденные еще могильные холмики, в ботинки набился песок.
Он так и не нашел могилу мачехи. Принесенные с собою цветы он положил к памятнику, на котором пониже полустершихся древних письмен было написано от руки выцветшей краской: «…а также в память всех тех, кто пропал без вести…» — и пошел вниз, к выходу.
Всю ночь они молча просидели вдвоем с сестрой на веранде, увитой диким виноградом с еще не распустившимися листьями, из распахнутых окон слышался во дворике храп и бессвязное бормотание спящих, плач проснувшегося ребенка и сонный голос убаюкивающей его матери.
Они не говорили, не плакали, просто молча горевали о том, что редко виделись, мало любили — брат и сестра — друг друга тогда, когда это еще можно было, откладывали любовь и сердечность на завтра, на потом.
А наутро он улетел обратно в Москву.
Восьмого он отвез — Ансимов вызвался ему помочь — багаж на таможню в Шереметьево, и весь день, с раннего утра до вечера, они провели там в беготне и хлопотах. Юный таможенник, с почти детским лицом, роющийся в чемоданах, перетряхивающий со скучающим видом книги; безразличные ко всему на свете молоденькие пограничники; преисполненные чувства собственного превосходства иностранцы с огромными кофрами из натуральной кожи; юркие носильщики, перетаскивающие эти кофры с места на место, скрежеща колесиками своих тележек по плитам пола; радостно-возбужденные советские туристы в наглаженных, только что из химчистки костюмах и начищенных до нестерпимого блеска ботинках, — и лишь к вечеру, вконец измочаленные, Бенедиктов и Ансимов покатили обратно в Москву.
Над Ленинградским шоссе стояло чистое весеннее небо, тоненький серпик луны таял в нем обсосанной лимонной долькой, машин было совсем мало — воскресенье, выходной, к тому же канун праздника: завтра девятое, День Победы. Редкие «КамАЗы» с прицепами и громоздкие туши фургонов «Булгарэкспорта» держали путь на север, их обгоняли запоздалые дачники на шустрых «жигульках», да в обратном направлении — велосипедисты в пестрых майках, с запасными шинами портупеей через плечо.
Но поближе к Москве небо затянула угрюмо-серая, с бурым подбрюшьем туча, и разом ударила первая в этом мае гроза с фейерверочными молниями, по кузову машины мелко забарабанил град.
— Заедем ко мне, — предложил Ансимов, вынырнув из тоннеля на Соколе.
За всю дорогу они не сказали друг другу ни слова — устали, да и что еще можно сказать: все, конец, послезавтра самолет…
— Нет, — ответил Бенедиктов, — я, пожалуй, к Левке.
— Поехали ко мне, — настаивал Ансимов. — Поехали, не дури. Хоть потреплемся напоследок.
— Успеем, еще целые сутки впереди, — И подсчитал: — Больше — ночь, день да еще ночь.
— Много… — усмехнулся Паша.
— Целая жизнь, — согласился Бенедиктов.
— Странно, — заметил после долгого раздумья Ансимов, — когда хотят сказать: «очень долго», «много времени», говорят — «целая жизнь». Глупо! Ведь смерть гораздо дольше жизни. Уж точнее бы — «целая смерть»…
— Можно и так, — не стал спорить Бенедиктов, — зависит от взгляда.
— Левка небось уже вдугаря, он жутко переживает… Поехали лучше ко мне.
— Нет. Он ждет, я обещал.
— Мое дело экипаж подать, — сдался Паша, — а там — как барин… — Он свернул, не доезжая Маяковки, на Брестскую, потом направо, на Садовое, — А завтра?..
— До завтра еще дожить надо, — отшутился Бенедиктов и вдруг поразился пришедшей ему неожиданной мысли: — Или лучше — не надо?.. А?..
Анисимов не ответил, он перестраивался в правый ряд у площади Восстания, ему было но до того.
Борисов был и впрямь пьян, в той первой стадии «кайфа», когда его кашей не корми, а дай пофилософствовать или, как он сам определял это состояние, «метать икру».
Огромный, краснорожий, с выпирающим из низко обвисших брюк животом, в рубахе с оторванными пуговицами, из-под которой лезла наружу поросшая седыми завитками жирная грудь, он сидел в продавленной соломенной качалке, и казалось чудом, что она не разваливается под ним. На полу рядом с качалкой стояла бутылка водки, сильно уже уполовиненная, в мастерской не продохнуть было от застарелого табачного духа.
— Я ждал, — сказал высокопарно Лева вошедшему без стука Бенедиктову — дверь мастерской запиралась лишь в отсутствии хозяина на пудовый, музейной ценности амбарный замок. — Я ждал, входи. Пей. И — молчи. Потому что говорить буду я.
Бенедиктов сел на стоящий посреди мастерской «подиум», взахлеб сделал несколько глотков из початой бутылки.
— Хорошо пьешь, — похвалил его Лева. — Но стесняйся, запасы практически неисчерпаемы, не экспортная нефть. — И, перегнувшись через подлокотник, достал из-под качалки еще две бутылки. — Пей и молчи. Тебе сейчас самое время умолкнуть. Говорить буду я.
Бенедиктову и при желании невмоготу было говорить — ни слов в нем, ни мыслей — пустота, словно в пещере, где только гулким эхом отзывается чужой голос. И водка тоже показалась ему без вкуса. И — без смысла.
Но и Борисов, вопреки своему обещанию, тоже молчал, глядя в пол меж огромных шаров своих колен, обтянутых линялым вельветом.
За окном с крыши и с первой, робкой, еще майской листвы редко падали крупные капли недавней грозы.
— Все? — после душного молчания не то вопросил, не то печально удивился Лева, и эхо отозвалось Бенедиктову: о-о-о…
И захотелось Бенедиктову плакать, но и слез не было.
Борисов поднял голову, однако посмотрел не на него, а поверх него в угол, где, полуприкрытая давно высохшей, заскорузлой рогожей, стояла недоконченная Истина.
Он бросил ее, так и не долепив, и не потому даже, что усомнился, хватит ли ему таланта и сил, чтобы закончить работу, а просто однажды поутру, после долгого и очищающего душу запоя, он прозрел, что у истины, как и у искусства — а это для него было одно: истина и искусство, — нет и не может быть окончательного, неизменного лика.
Так она, незавершенная, и стояла в дальнем углу: обнаженная женщина-ребенок, московская, шестидесятых годов девчонка, заломившая руки и одной из них прикрывшая глаза, чтобы защититься от нестерпимого жара правды. Но вместе с ужасом перед нею на лице девочки этой, с неразвитой грудью и выпирающими ключицами, была еще и почти высокомерная полуусмешка-полуулыбка гордости за некое всезнание, за разгадку тайны.