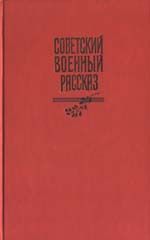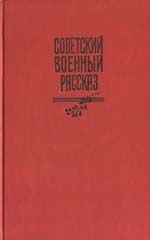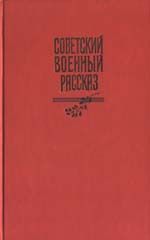Михаил Постников - Критическое исследование хронологии древнего мира. Античность. Том 1
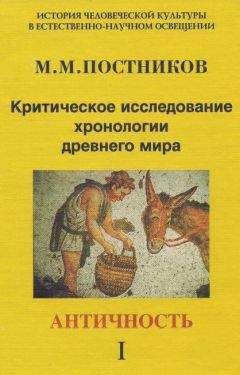
Помощь проекту
Критическое исследование хронологии древнего мира. Античность. Том 1 читать книгу онлайн
Мы всецело разделяем эту точку зрения, и именно ею мы руководились выше. Ссылка на традицию стала основным аргументом в сколько–нибудь сложных исторических вопросах только потому, что без такой ссылки история древнего мира немедленно увязнет в безнадежных противоречиях. Рациональная же теория исторического процесса в этих ссылках не нуждается.
Эволюционная теория
Поскольку античная культура и образованность, как она отражена в «античной» литературе, является мифом, у нас нет никаких оснований предполагать ее реальное существование. Более того, концепцию ее катастрофического уничтожения варварами мы можем поставить в один ряд с аналогичными концепциями, существовавшими некогда, например, в палеонтологии. Основатель этой науки, Жорж Кювье, полагал, что смена животного мира на Земле происходила не эволюционно, а посредством ряда катастрофических переворотов, уничтожавших прежние формы жизни (скажем, динозавров) и расчищавших дорогу для новых, более совершенных форм (млекопитающих). Метафизическая (по оценке Энгельса) теория Кювье была сменена в палеонтологии эволюционным учением Дарвина, а аналогичное и столь же метафизическое представление о катастрофической гибели античного общества в истории сохранилось, поскольку отказ от него автоматически влек отказ от всех традиционных представлений об античности,
Следуя Морозову, мы полагаем, что и в истории драматичные картины гибели целых цивилизаций должны уступить место непрерывной эволюционной схеме. Конечно, эта концепция не имеет ничего общего ни с вульгарно–социологической теорией социал–дарвинизма, метафизически переносящей на общество биологические законы борьбы за существование, ни с социал–реформизмом. проповедующим медленное «эволюционное» перерастание капитализма в социализм. Эволюционная теория Морозова не только не отрицает революционных изменений в социально–политических структурах, но непосредственно их предусматривает. В ложном соответствии с известным высказыванием Ленина она лишь утверждает, что революционные смены общественных формаций не влекут за собой уничтожения накопленных ранее культурных богатств, а, наоборот, способствуют их расцвету и новому быстрому росту, невозможному в мертвящих рамках отмирающей формации.
Человеческая культура никогда не прерывалась и не возникала через несколько столетий, как птица Феникс из своего пепла. Лишь гегемония ее преемственно переходила из страны в страну, следуя развитию производительных сил и производственных отношений. Вся культура никогда не гибла; гибли только отдельные центры в результате локальных социально–экономических катастроф (землетрясений, эпидемий, неурожаев, нашествий врагов).
В частности, раннее средневековье было периодом зарождения европейской культуры, и, например, познания в географии Индикоплевста (VI век) и в математике Беды Достопочтенного (VII век) были не обрывками прежних, якобы забытых сведений, а высшими достижениями науки того и всего предшествующею времени. Лишь в новое время эти первые, робкие ростки науки были восприняты как свидетельства упадка и деградации.
На самом же деле никакого упадка не было, интерес к науке (конечно, в соответствующих формах и соответствующей интенсивности) никогда не исчезал, культура медленно, но верно развивалась. Зияющий провал в культурном развитии человечества, известный как «темные века», является иллюзией, возникшей из–за того, что почти: все научные и культурные достижения этого периода были приписаны мифической античности.
Герменевтика
Концепция Морозова подразумевает кардинальный пересмотр всей хронологической схемы истории древности. Конечно, это тоже нужно делать по документам на основании общей методики исторического исследования.
Эта методика предписывает после внешней критики документа и выяснения его происхождения заняться его внутренней критикой (герменевтикой). В первую очередь, герменевтика должна ответить на вопрос: что написано в документе? — т.е. должна прочесть документ. Дело в том, что даже когда документ надежен (является, скажем, найденной в Кумране рукописью иди представляет собой высеченный на скале иероглифический текст), использовать его очень сложно, поскольку почти всегда прочтение документа неоднозначно. Отсутствие огласовок, обилие сокращений и специфических реалий дает возможность для нескольких вариантов понимания смысла документа, и это даже в том редком случае, когда язык документа полностью известен, так что никаких чисто переводческих проблем нет.
Большое значение для прочтения документа имеет; в частности, априорное мнение исследователя о том, к какой эпохе документ относится. (Утрированный пример: слово «вратарь» мы по–разному поймем в старорусской рукописи и в современной газете). К сожалению, в отношении греко–латинских документов это исходное мнение о «соответствующей эпохе» пришло к исследователям из периода почти полного отсутствия критики, а ныне оно жестко затвердело в виде традиции. На самом же деле подавляющее большинство древних документов описывают совсем не ту эпоху, которая насильно привязана к ним этой хронологической традицией.
Можно сказать, что чтение документа есть функция понимания этого документа. Это особенно наглядно видно на примере действительно трудно понимаемых, по–настоящему древних документов (в основном религиозных, как, например, Библия). Человек, не имеющий доступа к оригиналам, вынужден знакомиться с ними по приглаженным переводам, обусловленным априорной точкой зрения издателя. Конечно, сейчас сознательные ученые снабжают издание документа обширным аппаратом комментариев, в которых разъясняются трудные места, указываются варианты перевода, т.е. расшифровываются реалии. Однако некий основной слой априорных предположений всегда присутствует и никогда не оговаривается. Например, не существует издания Аристотеля, в котором было бы прямо оговорено предположение о его «античном» происхождении, поскольку считать это предположением (а ведь это действительно предположение, и к тому же ничем реальным не обоснованное) никакому специалисту по Аристотелю даже не приходит в голову (хотя все общие принципы исторической критики ему хорошо известны и он с ними вполне согласен).
Ошибки, возникающие из предварительной (часто неосознанной) установки исследователя, хорошо известны ученым. Вот, например, что пишут Ланглуа и Сеньобос:
«Даже историки, работающие по всем правилам метода, имеют естественную склонность читать текст документа с единственною заботою найти в нем непосредственно нужные сведения, не задаваясь мыслию представить себе с точностью, что имелось в уме у автора. Такой образ действия извинителен, самое большее, по отношению к документам XIX столетия, писанным людьми, говорящими и мыслящими вполне для нас понятно, одним словом, в тех случаях, где возможно только одно толкование. Он делается опасным тотчас же, как только привычка автора выражаться и мыслить расходится с образом мышления я языком историка, читающего документ, или если смысл текста не представляется бесспорным и очевидным. Всякий, кто, читая текст, не заботится исключительно о том, чтобы его понять, поневоле читает его сквозь призму своих собственных впечатлений: его поражают в документе отдельные фразы и слова, отвечающие его собственным мыслям и согласующиеся с тем представлением, которое он составил себе априори о фактах; сам того не замечая, он выделяет эти фразы и слова и создает из них воображаемый текст, принимаемый им за действительный текст автора.
Здесь, как и везде в истории, метод необходим для сопротивления первому влечению. Нужно, прежде всего, проникнуться тем очевидным, но часто забываемым принципом, что документ содержит только мысли писавшего его лица, а потому следует принять за правило сначала понять текст сам по себе, а потом уже задаваться вопросом, что можно извлечь из него для истории. Таким образом, приходят к тому главному правилу метода, что изучение каждого документа должно начинать с анализа содержания, не имея в виду никакой другой цели, кроме выяснения действительной мысли автора» ([157], стр. 114—116). Однако, признавая на словах всеобщую значимость этих соображений, историки не применяют их к критике фундаментальнейших. положений древней истории, поскольку сама мысль о том, что с этими положениями, может быть что–то неладно, им чужда.
После того, как документ прочтен, и мысль автора понята, наступает следующий этап герменевтической критики документа; следует оценить объективную значимость сообщаемой в документе информации. «Даже в том случае, когда автор мот наблюдать факты, его текст показывает только, как он хотел их передать, а не то, как он видел их в действительности, и еще менее дает понятие о том, как они происходили на самом деле. С одной стороны, автор мог и не высказать того, что думал, потому что он мог лгать; с другой стороны, то, что он думал, не происходило непременно в действительности, так как он мог ошибаться. Основательность этих предположений очевидна. Тем не менее, первое, естественное, влечение заставляет нас принимать за верное всякое свидетельство, содержащееся в документе, или, иными словами, признавать, что ни один автор никогда не лгал и не ошибался; и эта доверчивость, по–видимому, очень велика, потому что она продолжает существовать вопреки ежедневному опыту, убеждающему нас в бесчисленных случаях ошибок и лжи.