Коллектив авторов - Этносы и «нации» в Западной Европе в Средние века и раннее Новое время
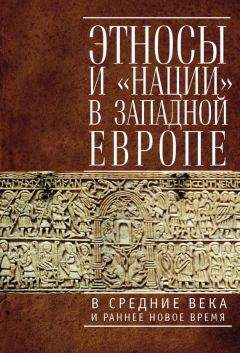
Помощь проекту
Этносы и «нации» в Западной Европе в Средние века и раннее Новое время читать книгу онлайн
«Архаизация» получала и социо-культурную интерпретацию, которая, однако, весьма явственно тяготеет к филологическим толкованиям. К примеру, Г Хунгер полагал, что в XIV в. «архаизация» являлась уделом интеллектуалов из слоя peaoi, для которых она являлась объединяющими знаками корпоративного единства и корпоративной исключительности. И.И. Шевченко поддерживает эту идею, рассуждая о классическом знании (и соответственно, способности к классицистической имитации), как о престижном групповом маркере, отделявшем интеллектуалов от низших классов9. Обсуждение этих и других точек зрения содержится в статье М. Бартузиса, который не только привел господствующие в историографии мнения, но и выдвинул свое видение проблемы. Исследователь справедливо рассматривает «архаизацию» как часть еще более обширной проблемы отношения византийцев к своему прошлому10.
Ниже мы предложим еще одно возможное решение проблемы «архаизации», рассмотренной в частном контексте византийской этнонимической классификации. В применении к этнической терминологии проблему «архаизации» вряд ли возможно решить только средствами литературной критики и поэтологии. На проблему можно взглянуть с более общих эпистемологических позиций, которые позволяют достичь большей ясности в понимании того, как византийцы структурировали мир вокруг них. Другими словами, следует уяснить какими критериями тождеств и различий пользовались византийцы при построении своих этнических таксономий.
Решающее значение имела сама базовая логика византийского метода систематизации и классификации объектов, которую проще всего будет проиллюстрировать на примере элементарной аристотелевской логики. По своим принципам научный метод византийцев мало отличается от современного – оба они восходят к аристотелевской эпистемологии, которая господствовала в пространстве традиционной науки вплоть до XIX в. Ключом для понимания византийской таксономии являются две связанные пары категорий, подробно разрабатывавшихся Аристотелем и воспринятых античной и византийской наукой как фундаментальные идеи: во-первых, это – общее и единичное, во-вторых, – род и вид. Единичное воспринимается чувственно и присутствует «где-либо» и «теперь». Общее – это то, что существует в любом месте и в любое время («повсюду» и «всегда»), проявляясь при определённых условиях в единичном, через которое оно познаётся11. Общее постигается умом, и именно оно является предметом науки. Частное многообразие объектов, объединяемых по общности их свойств и признаков, редуцируется к условным, «общим» родовым категориям. По определению Аристотеля, «род есть то, что сказывается в сути о многих и различных по виду [вещах]»12. Еще более ясно формулирует Порфирий: «… род есть то, что сказывается о многих и различных по виду вещах, при указании существа этих вещей, а вместе с тем мы обозначаем вид как то, что подчинено разъясненному выше роду…»13.
Другими словами, родовые категории представляют собой универсальные модели и идеальные типы, которые в классификации объединяют реальные единичности («многие и различные по виду вещи»), обладающие известными общими чертами.
Согласно описательным моделям Аристотелевой топики, «то, что род не содержит, не содержит и вид. Однако не необходимо, чтобы то, что вид не содержит, не содержал род. Но так как о том, о чем сказывается род, необходимо сказывается и какой-нибудь из его видов и так как все то, что обладает родом, или обозначено [словом], производным от этого рода, необходимо обладает одним из его видов или обозначено [словом], производным от одного из его видов»14. Виды объединяются в роды лишь по части собственных свойств, и роды, таким образом, могут объединять весьма непохожие видовые единицы, имеющие, однако, некие общие существенные черты.
В идеале родовые категории призваны охватить собой не только известные «единичные» объекты, но и вновь открываемые. В этом смысле, метод византийцев идентичен современному; оба они обращены в будущее – в освоение непознанного через подобие и аналогию. Византийская таксономическая иерархия была содержательно и методологически унаследована от античности, классифицируя и систематизируя не только известные, но и новые, открываемые объекты.
Приведем несколько примеров из историографии. Зосим в V в., определяя гуннов, подводит их под классификационную (родовую) модель скифов, отчетливо при этом осознавая, что народ этот новый и не тождественный древним скифам: «некое варварское племя поднялось на скифские народы, жившие по ту сторону Истра, которое прежде не было известным и тогда неожиданно появилось – звали их гуннами, их же следует именовать либо царскими скифами, курносым и слабым народом, как о них говорил Геродот, живущим на Истре, или же теми [скифами], которые переселились из Азии в Европу….»15. Другими словами, автор отнюдь не думает, что гунны во всем тождественны скифам Геродота; в его классификации гунны – это одна из разновидностей идеального родового понятия «скифы», аналогичная некоторым видам древних скифов.
Этот метод византийских интеллектуалов, искавших ключ к объяснению современного мира через установление подобий и аналогий (ср. с σύγκρισις «сопоставление», «сравнение» в риторике16), способствовал сохранению целостности и внутренней непротиворечивости византийской системы знаний и обеспечивал ее способность к распознаванию и систематизации новых объектов.
Проблема заключается в том, что византийская таксономическая сетка тождеств и различий, на основе которой и проводилось приведение новой информации к уже известным моделям, значительно отличалась от современной. Византийские схемы в части классификации народов существенно отличались от современных вследствие применения иных, нежели в современной науке, классификационных критериев. В отличие от современных этнических классификаций, византийцы практически не применяли языковый критерий.
Именно эта последняя особенность византийской классификационной модели, отодвигавшей языковый критерий на второй план, и делает ее столь непохожей на современную. Если современная наука выставляет главным критерием в систематизации народов их языковую принадлежность, то византийское знание классифицировало народы посредством их локативных параметров. В качестве вторичного, дополнительного критерия учитывались социо-культурные характеристики народов. В зависимости от места обитания народа (Галлия, Дунай, Северное Причерноморье, Кавказ, Анатолия, Ближний Восток, Северная Африка и т. д.) и его образа жизни (кочевой/оседлый) на него переносилась та или иная традиционная модель, а вместе с ней и маркирующий этникон.
Начнем с того, что критерий географического локуса (πατρίς, отчизна, родина) являлся базовым в персональной идентификации византийцев. Византиец ассоциировал себя и других своих соотечественников в первую очередь с местом рождения и, соответственно, с людьми, живущими там. Πατρίς может обозначать деревню, город, провинцию, историческую область (Исаврия, Фракия, Вифиния, Пафлагония, Каппадокия, Понт и т. д.), государство (например, Романия) в их географическом аспекте. Важная роль narpig, как одного из распространенных способов идентификации человека, удостоверяется моделями византийской антропонимики, и особенно прозвищами, которые указывают на географическое происхождение их носителей. Идентификация человека по локативному прозвищу, происходящему от места его рождения или жительства (Кесарийский, Газский, Каппадокийский, Трапезундский, Пафлагонец, Исавриец и т. д.), была довольно обычной для Византии, которая унаследовала этот способ маркировки от прежних времен. Локативное прозвище считалось, по-видимому, наиболее простым и удобным способом обозначить индивидуальность человека.
Любовь византийцев к родине удостоверяется многими текстами, представляющими собой особый жанр patria, который служил манифестацией этой ностальгии по родине. Одной из наиболее разработанных ветвей византийского жанра patria была Patria Constantinopolitana, «Константинопольская отчизна», скрупулезно описывающая топографию Константинополя, его памятники, церкви, святые места, административные здания, дворцы, рынки и т. д.17 Хорошо известны многочисленные аналогичные описания больших и малых городов помимо Константинополя, особенно для раннего византийского периода. Мы знаем о раннем византийском описании Антиохии, Фессалоники, Тарса, Бейрута, Милета и других городов империи18. От последующих периодов до нас дошло несколько экфрасисов, восхвалявших многие большие и малые центры византийского мира: Антиохии, Никеи, Трапезунда, Ираклии Понтийской, Амасьи т. д.19 Любовь к родине проявляется не только в patria и экфрасисах, она обнаруживается как структурно выделенный элемент в других жанрах византийской литературы. Жанрово это могла быть история родного города или области, как, например, «Взятие Фессалоники» X в., написанная Иоанном Каминиатом. Он описал арабскую осаду и захват Фессалоники в 904 г. «Наша отчизна, мой друг, Фессалоника» (Ἡμεῖς ὦφίλος πατρίδοςἐσμὲν Θεσσαλονίκης) – начинает Иоанн Каминиата свое описание красот Фессалоники, таким образом предваряя скорбный рассказ о том, как нападение арабов разрушило эти красоты города и почти сравняло Фессалонику с землей20. Значимость пространственного измерения в идентичности человека особенно ярко видна в византийской агиографии. Одним из обязательных элементов агиографического повествования было указание на точный географический локус, из которого происходит святой (как один из византийских агиографов в конце IX в. сформулировал это: «Но поскольку это является обычным при написании истории рассказать кем являлся [человек] и откуда [он происходит]…»)21. Обычно агиографы давали краткие хвалебные характеристики месту рождения описываемого ими святого («выдающийся», «славный» город», «блаженный остров» и т. д.), будучи особенно внимательными к тому, было ли это место колыбелью других святых людей в прошлом. Агиограф будто пытается найти основания для выдающихся достоинств святого, в частности, и в характеристиках его отчизны, влияющих на нрав обитателей.
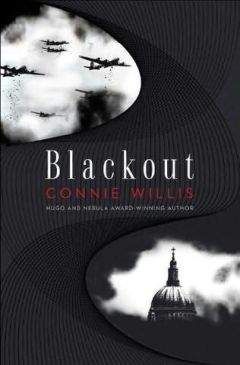

![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)






















