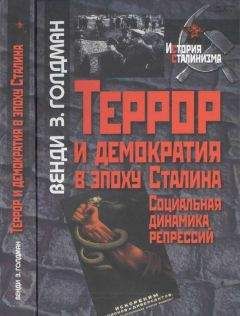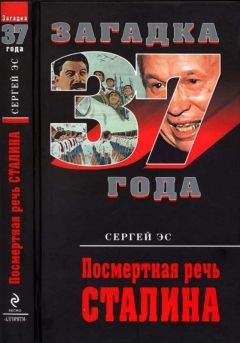С. Папков - Сталинский террор в Сибири. 1928-1941
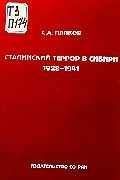
Помощь проекту
Сталинский террор в Сибири. 1928-1941 читать книгу онлайн
Глава I. Прелюдия террора
События 1928–1929 годов — своеобразный рубеж в политической истории Советской России. Эти события заключают в себе целую цепь драматических перемен, радикально изменивших картину политической жизни и направление общественного развития в стране.
В эти годы большевистское руководство, одержимое идеей ускоренного индустриального роста, резко изменило методы социального переустройства общества. После нескольких лет относительно спокойного, эволюционного развития в рамках нэпа сталинская группировка сделала ставку на насильственные изменения. Репрессивно-карательные меры против различных политических и общественных сил вновь были поставлены на службу интересам власти.
Возобновление карательных действий против крестьянства, физическая расправа с «левой» (троцкистской) оппозицией в рядах ВКП(б), разгром и изоляция «правого уклона» — таковы были основные внешние признаки, возвестившие наступление одного из самых трагических периодов советской истории.
1. Открытие «хлебного фронта»
Для нас, большевиков, нет интересов Сибири, интересов Кавказа, Украины. Для нас интересы революции в целом — прежде всего и выше всего.
Эйхе, 1930 г.Непосредственной причиной, подтолкнувшей власть к расширению репрессивной политики, стали экономические осложнения в стране, главным образом в сфере продовольственного снабжения. Несмотря на все попытки большевиков организовать рыночную экономику по своим особым меркам, их усилия на этом поприще оказались малоэффективными. В течение всего нэповского периода провалы следовали один за другим, пока наконец советская хозяйственная система не зашла в тупик. Произошло то, что рано или поздно должно было произойти. К концу 1927 года большевистский полурынок, обслуживавший скорее политику, чем экономику, пришел в совершенное расстройство. Созданный им хозяйственный механизм не обеспечивал и минимальных потребностей государства в зерновой продукции. Поступления из деревни резко сократились ввиду того, что главное действующее лицо — крестьянство — перестало поставлять свой хлеб по ценам, предлагаемым правительством, ожидая лучших условий в отношении спроса.
Тревожные сигналы с рынка большевистское руководство восприняло в привычной для него манере. Оно решило силой отнять хлеб у крестьян. Полагая, что некоторое отступление от принципов провозглашенного ими нэпа не может повредить развитию отношений с крестьянством, вожди партии постановили принять «временные чрезвычайные меры», чтобы с их помощью поправить положение с хлебом.
Самым решительным сторонником насилия выступал Сталин. В первых числах января 1928 года он стал рассылать местным партийным работникам секретные телеграммы, в которых потребовал «применять немедленно жесткие кары». «Особые репрессивные меры, — указывал он, — необходимы в отношении кулаков и спекулянтов, срывающих сельскохозяйственные цены»{5}. И пояснял:
«Чтобы восстановить нашу политику цен и добиться серьезного перелома, надо сейчас же ударить по скупщику и кулаку, надо арестовать спекулянтов, кулачков и прочих дезорганизаторов рынка и политики цен. Только при такой политике середняк поймет, что перспектива повышения цен на хлеб
есть выдумка спекулянтов, что спекулянт и кулак есть враг советской власти…»{6}.
В телеграмме 14 января 1928 года генсек отметил особое значение Урала и Сибири в хлебозаготовках. Он подчеркивал: «нажим нужен здесь отчаянный, так как это последний резерв». Сталин изображал положение как критическое и добивался, чтобы местные функционеры понимали это именно так. Перед лицом угрожающих обстоятельств любое насилие могло выглядеть законной революционной мерой, вполне оправданной в глазах всякого правоверного коммуниста.
В середине января генеральный секретарь сам выехал в Сибирь, чтобы продиктовать крестьянам условия поведения на рынке. В течение нескольких недель он разъезжал по городам и сельским районам края, выступал на разных собраниях, заседаниях, встречах, наблюдал и оценивал ход событий на «фронте хлебозаготовок».
Метод переговоров с обладателями зерновых запасов, с самого начала предложенный умеренными партийцами, Сталиным был категорически отвергнут. Заявляя, что крестьяне «не так поняли новую экономическую политику, как нужно было бы ее понимать», он насмехался над теми, кто искал выход из кризиса в усилении товарообмена. Генсек признавал полезными совсем другие способы. Сибирским коммунистам он терпеливо разъяснял:
«Аргументация силовая имеет такое же значение, как аргументация экономическая, а иногда она имеет даже большее значение, когда портят рынок, всю нашу экономическую политику стараются повернуть на рельсы капитализма, на что мы не пойдем»{7}.
Для тех, кто сомневался, что между рынком и насилием существует прямая связь, Сталин приводил живые примеры. Он ссылался на недавний опыт хлебозаготовок на Украине.
«Вот как обернулось дело, — говорил он. — По голове скупщиков ударили, а рынок уже оздоровился…т. е. заготовки поднялись в 2 раза. То же самое наблюдается и по центральным губерниям: было около 500–600 тыс., а теперь заготовляют около полутора миллионов. (…) От этих фактов не уйдешь, и они опровергают ваши предположения, а, следовательно, подтверждают то, что наши меры оказались даже более действительными (Так в тексте), чем мы думали. Значит, пружину у рынка мы уловили, как раз в точку ударили и этим хлебозаготовки подняли»{8}.
Принципы такой политэкономии предстояло теперь распространить и в Сибири.
По требованию Сталина принят был следующий план: в основных зерновых районах немедленно организовать энергичную карательную акцию против «злостных держателей хлеба» с привлечением их к уголовной ответственности как преступников. Для возбуждения против них уголовных дел договорились использовать «законное» основание — 107 статью Уголовного Кодекса РСФСР, разрешавшую арест владельцев хлеба и конфискацию у них «излишков» по мотивам «злостного повышения цен на товары путем скупки, сокрытия или не выпуска таковых на рынок»{9}.
Сталин настоял также, чтобы карательная кампания осуществлялась не скрытыми операциями отрядов ГПУ, как планировали местные руководители, а с максимальной гласностью — с прокурорскими санкциями, показательными процессами и газетной пропагандой. Он предпочитал действовать открыто, даже демонстративно. Ему нужен был публичный эффект, чтобы запугать одновременно всех крестьян, заставить их признать, что у них нет иного выхода, как подчиниться ультиматуму властей.
Сталин позаботился и о деталях задуманной им кампании. С его участием в Сибкрайкоме были подготовлены особые указания местным работникам в виде секретного циркуляра: проводить расследование по «кулацким» делам «в течение суток, а в исключительных случаях — не более чем в трехдневный срок»; слушать дела без участия обвинения и защиты, «допуская таковые только лишь в случае необходимости устройства, по решению тройки, широкого показательного процесса», утверждать все приговоры, не смягчая их и не удовлетворяя кассационных жалоб.{10}
Таким образом, вы «революционная законность», созданная нэпом, безжалостно разрушалась под натиском тех требований, которые Сталин решил предъявить крестьянству.
Но сталинские планы простирались гораздо дальше простого намерения отобрать хлеб у зажиточных. Куда важнее было устранить главное препятствие для овладения хлебом в будущем — самих сельских хозяев с их независимостью.
На совещании в Сибкрайкоме 20 января сталинская речь о перспективах развития деревни прозвучала как приговор единоличным хозяйствам. Было определенно заявлено, что «линия развития кулака» не имеет никаких шансов на будущее, «…путь дальнейшего укрепления, дальнейшего развития единоличных кулацких хозяйств — путь, который для нас закрыт»{11}.
Оставалось таким образом последнее лекарство для деревни — колхозы. «Других путей, кроме объединения мелких и мельчайших хозяйств в крупные коллективные хозяйства, нет. При советском режиме не существует других путей», — заключил Сталин.
В деревне между тем сотни вооруженных партийцев начали инвентаризацию имущества зажиточных крестьян и изъятие «излишков». Уже в январе 1928 года кампания хлебозаготовок представляла собой обычную продразверстку. Повальные обыски, облавы, запреты на торговлю, конфискация скота, сельхозмашин и крестьянского барахла внезапно вернули сибирскую деревню к 1920–1921 годам.
Большинству крестьян был нанесен очень сильный психологический удар. Сельские хозяева, успевшие привыкнуть к определенным советским гарантиям, неожиданно обнаружили, что никаких гарантий больше не существует. Отныне власти запрещают земледельцам распоряжаться плодами своего труда и требуют сдавать продукцию по «твердым ценам». Кто был не согласен — у того отнимали силой и сажали по 107 статье.