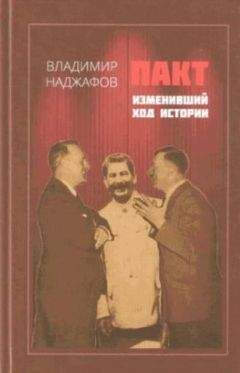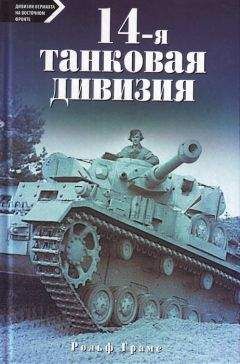Джузеппе Боффа - История Советского Союза: Том 2. От Отечественной войны до положения второй мировой державы. Сталин и Хрущев. 1941 — 1964 гг.

Помощь проекту
История Советского Союза: Том 2. От Отечественной войны до положения второй мировой державы. Сталин и Хрущев. 1941 — 1964 гг. читать книгу онлайн
Вместе с тем нельзя сказать, что политических новшеств вовсе /548/ не было, особенно в деревне. Огромные средства были направлены и сельское хозяйство. Но это не дало ожидаемого эффекта — производство сельскохозяйственной продукции, и в частности животноводства, оставалось на прежнем уровне. Возможно, эти средства не были на практике эффективно использованы. Возможно, уже было слишком поздно и уже нельзя было преодолеть отчужденность крестьянина по отношению к собственному труду, побуждавшую, особенно молодежь, уезжать из села. Как бы то ни было, вместо обещанного изобилия — и несмотря на импорт зерна в огромных масштабах — страна столкнулась в начале 80-х годов с настоящим продовольственным кризисом. Явление это, как известно тому, кто прочел тома этой «Истории», не новое в превратностях советской жизни, но все же оно всякий раз оказывается чревато серьезными политическими последствиями. Рассыпалось, таким образом, и обещание роста благосостояния путем обеспечения все большего обилия потребительских благ, которым брежневское руководство пыталось найти и вначале добивалось поддержки населения.
Именно в силу своего масштаба кризис не мог оставаться только экономическим. Он становился и политическим. Относительная устойчивость правления брежневской группы трансформировалась в геронтократию — власть старцев, поскольку почти все руководители к этому моменту перешагнули черту семидесятилетия. Прогрессировавшему параличу верхушки, лишенной достойной смены, соответствовали растущее безразличие и даже недоверие населения, особенно эти явления наблюдались среди молодежи. Официальная идеология переживала эволюцию, сходную с той, которая наблюдалась в экономике: поддерживаемая столь же колоссальным, сколь крикливым пропагандистским аппаратом, она порождала лишь равнодушие, если не прямую реакцию отторжения у народа. Падение ее эффективности признавалось самими руководителями. Для определения своего строя они изобрели малоубедительный или совсем не убедительный новый термин: «развитой социализм». Одновременно исчезала та распространенная надежда на планомерное улучшение условий жизни каждого, которая служила в прошлом одним из главных факторов народной поддержки советского строя.
Кризис, следовательно, становился также кризисом морали и культуры. Под влиянием коррупции и увеличивающегося разрыва между руководителями и руководимыми происходило крушение тех нравственных ценностей, без которых любое общество рискует распасться. Аналогичные кризисные явления зачастую наблюдались, правда, и в других странах в периоды бурных преобразований. Однако чего недоставало в СССР, так это именно преобразований. Страна пребывала в застое. Как следствие застоя, развивался пессимизм. Официальным властям не было никакой подающей надежду альтернативы. От руководящих кругов давно уже не поступало /549/ никаких новых или стимулирующих идей. Культурные институты в целом являли собой удручающую картину. В поисках источников вдохновения советские люди, начиная с наиболее молодых, вынуждены были обращаться либо к загранице (как бы плохо они ее не знали), либо к собственному давнему национальному прошлому (каким бы архаичным оно ни выглядело).
Тем не менее эта реалистическая картина кризиса осталась бы неполной, если бы мы не сказали, что брежневские годы не были лишь временем застоя. С особой очевидностью это прослеживается в области культуры. Мы говорили до сих пор о диссидентстве, об эмиграции значительных интеллектуальных сил, растущем разрыве между властью, ее идеологией и творческими, духовными потенциями общества. Даже будучи придавленными и лишенными средств выражения, эти потенции не исчезли. Пускай подспудно, но продолжался круговорот идей, чему способствовало расширение контактов с внешним миром, а следовательно, и с собственными ранее эмигрировавшими соплеменниками. В узком дружеском кругу продолжались споры и осмысление действительности. Создавались произведения — «в стол» или для нелегального распространения. Разумеется, этого было мало для обеспечения расцвета нового мышления. Лишенное выхода, это явление становилось скорее источником фрустрации как раз для лучших интеллектуальных сил страны. И тем не менее история диссидентства, которое не могло проявить себя при свете дня и, несмотря на это, продолжало существовать, остается одним из тех аспектов брежневского времени, которому будущие историки должны будут уделить величайшее внимание в своих исследованиях, ибо это движение уже содержало в себе в зачаточном состоянии то, что произойдет позже. Здесь же достаточно отметить, что оно лежало у истоков скрытого конфликта между обществом, его интеллигенцией и политическим руководством страны. Это тоже было одной из сторон кризиса, и, разумеется, одной из наиболее важных его сторон.
Международный кризис
Когда общество таких масштабов, как советское, переживает глобальный кризис, вроде того, который мы только что попытались описать, это не может не отразиться и на его международном положении. В начале 80-х годов серьезные признаки кризиса дали о себе знать и в этой области.
Явление это было тем более примечательно, что именно к этому времени СССР, как могло показаться, достиг высшей точки своего могущества. Правление Брежнева длилось 18 лет. Первое десятилетие характеризовалось положительным развитием его внешней политики. Ее главные результаты были достигнуты в первой половине 70-х годов. Их обозначают обычно термином «разрядка», и их кульминация — совещание в Хельсинки летом 1975 г. с его Заключительным /550/ актом, который был подписан 34 странами, то есть всеми европейскими государствами (кроме Албании, но включая Ватикан), а также Соединенными Штатами и Канадой.
Кульминационная точка «разрядки» — Заключительный акт Хельсинки — был таковым в том смысле, что увенчал длительный процесс постепенного улучшения отношений между двумя политическими блоками в Европе и их державами-гегемонами. В ходе этого процесса была осуществлена серия важных международных соглашений. С одной стороны, они привели к урегулированию наиболее острых спорных вопросов, оставленных в Центральной Европе войной и послевоенными годами: окончательному утверждению новых границ, начиная с границ Польши и Чехословакии; признанию существования двух германских государств, которые были приняты в члены ООН; установлению нового статуса для Западного Берлина. С другой стороны, между Советским Союзом и Соединенными Штатами установились менее напряженные отношения, нашедшие свое наиболее показательное выражение в заключении первых, пускай даже пока частичных, соглашений по ограничению ядерных вооружений. Поскольку все это с давних пор было целью советской дипломатии, можно было говорить — и московская пропаганда не упускала такого случая — об успехах дипломатии СССР. Хельсинский акт как бы соединял эти новшества в некую общую картину, заставляющую различные страны Европы и Америки стремиться к установлению новых политических, экономических, культурных или попросту человеческих отношений.
Можно было небезосновательно утверждать — в Москве, по крайней мере, это утверждалось на тысячи ладов, — что отмеченные успехи являются результатом изменившегося соотношения сил в мировом масштабе. Американская мировая гегемония была подорвана затяжной, дорогостоящей и катастрофической по результатам войной во Вьетнаме. По мере того как Западная Европа и Япония преодолевали последствия войны и вновь стали процветать, образовывались новые полюсы сил. Правда, для всех этих стран обрисовывалась новая угроза — резкое вздорожание энергоносителей. СССР, казалось, был огражден от подобных невзгод: во второй половине 60-х годов его экономика добилась новых успехов. Наконец Советский Союз сумел реализовать примерное стратегическое равновесие в гонке вооружений с Соединенными Штатами как путем усиления своего ядерно-ракетного арсенала, так и путем диверсификации своих вооруженных сил, и в особенности развитием флота.
В этом анализе, тем не менее, остаются пробелы, так как игнорируются те, пусть даже пока не очень заметные, факторы, которые ослабляли СССР и подтачивали его несбалансированное могущество. Эти факторы проявились как раз там, где ранее СССР мог рассчитывать на большую поддержку. Конфликт с Китаем развивался на протяжении всех 70-х годов, даже после смерти Мао; более того, он достиг новой остроты как раз на пороге следующего /551/ десятилетия. Влияние советской официальной идеологии в мире переживало период полного упадка. Что касается коммунистического движения, то там, где оно было сильным, оно стремилось отдалиться от СССР; там же, где, наоборот, оно со слепой покорностью поддерживало все, что идет из Москвы, его силы иссякали вплоть до полного исчезновения. Оживление советской экономики в 60-е годы длилось недолго; начиналось замедление темпов, вылившееся затем в кризис. Это, в свою очередь, уменьшало ту притягательность, какой Советский Союз еще мог пользоваться в обширном мире слаборазвитых стран, поскольку он был в состоянии предложить им военную помощь, но не экономическую поддержку или стимулы культурного роста.