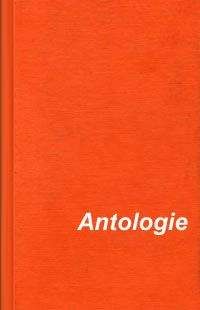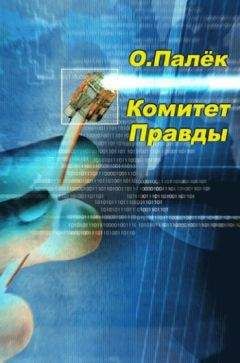Константин Соловьев - «Я сказал: вы — боги…»
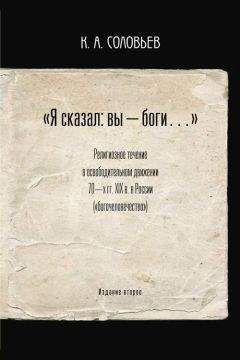
Помощь проекту
«Я сказал: вы — боги…» читать книгу онлайн
Ни одно из этих правил в коммуне не прижилось, что лишний раз показало как далеко «сконструированной» религии, в которой вера есть требование разума, до религии настоящей, в которой вера изначальна и иррациональна. В коммуне вера должна была возникнуть из желания и понимания, то есть стать следствием воли. Фрей, с его бесконечной убежденностью в собственной правоте, мог следовать этим путем очень долго. Остальные, «люди чувства» — нет.
Псалмы были отвергнуты сразу же. Какое-то время держалось вегетарианство, и то потому, что урожай, собранный осенью 1876 г. не позволял рассчитывать на обильный стол. Но даже крайняя бедность в сочетании с моральным давлением Фрея (а может быть как раз вследствие последнего) не спасли вегетарианскую доктрину. В.Г. Короленко сохранил ироничный рассказ Маликова «о том моменте, когда коммуна выбилась из-под нравственной ферулой Фрея» — они зарезали и съели единственную свинью, имевшуюся в их собственности [41,651].
Аскетизм же вводимый Фреем и наложившийся на без того крайнюю стесненность в средствах, приносил массу страданий, более нравственных, чем физических. Всем, кто впоследствии слушал рассказы Маликова о жизни в коммуне, больше всего запомнилось, что коров колонисты доить не умели и те давали все меньше молока. Поскольку же основным блюдом была болтушка из муки с молоком, то, после того, как коров «перепортили» и молока на всех не стало хватать, разница между аскетизмом Фрея и аскетизмом вынужденным перестала существовать. Начались болезни. К этому добавлялось и то, что заготовленных дров на всю зиму не хватило, и ходить за ними надо было почти ежедневно в мороз и пургу. Лишений хватало, но они были следствием неумелости и неприспособленности, а не сознательного самоограничения и все колонисты (кроме Фрея) были бы рады их избежать. К тому же жизнь полная лишений подрывала изначальную теорию «богочеловечества», признававшую необходимым гармоничное развитие всех сторон человеческой натуры.
Оставались еще «критицизмы». Они сильно отличались от тех «исповедей», которые практиковались до прибытия Фрея. Вот их описание из мемуаров В.И. Алексеева:
«Все члены общины должны были критиковать на специальных для этого собраниях каждого из собратьев, высказывая, что каждый из нас заметил предосудительного в критикуемом, и за эти следовало общее суждение, как нужно избежать этого или как исправиться» [2,244].
В фонде Н.В. Чайковского сохранилась записная книжка того периода, предназначенная специально для подготовки к «критицизмам» [14–71]. Записи в ней очень короткие: на каждой странице по два три имени и рядом — поступки, которые Чайковский считал неправильными или вредными. Например: «стычка А. с Б. и Ш.» (Алексеева с Бруевичем и Шлемой, как называли С. Клячко). На 19 страницах этой книжки упомянуты еще жена Чайковского Варя, Маликов, Фрей, Лидия (Эйгоф) и Иван (Хохлов?). «Проступки» разбираемые на «критицизмах» характерны для коммунальной жизни: обидное слово, спор по поводу работы прорвавшееся раздражение. «Критицизмам», по мысли Фрея, отводилась двойная роль. Во-первых, обрядового действия, фиксирующего этапы «очищения», служащего ступеньками к «новому коммунальному человеку». Во-вторых, разрядки, снимающей накопившиеся противоречия и обиды. Они должны были дать возможность «разумно» подходить к конфликтам, не давая разгуляться чувствам. Эффект же получился прямо противоположный. Днем, как можно судить по записям Чайковского, коммунары должны были присматривать друг за другом, а вечером выступать в качестве «обвинителями». Время исповедей прошло, а вместе с ними и период «просветления». Критицизмы оказались местом столкновения взаимных обид:
«Эта форма исправления (…) нисколько не исправляла отрицательных явлений в общине, наоборот, только портила взаимные отношения членов»[2,244].
Первоначально «богочеловекам» казалось, что достаточно единства убеждений и свободного труда, чтобы вместе пройти весь путь формирования гармоничного человека. Потом они решили, что дисциплина и контроль позволят хотя бы определить направления этого пути, а далее их чувство любви каждого к каждому вновь возобладает. Однако средства, применяемые Фреем, оказались совсем негодными: вместо постоянной поддержки и коллективных усилий по преодолению трудностей коммунары получили всеобщую слежку и тотальное обличение самых мелких проступков.
Всеобщей любви и гармонии, основанной на вере ли (по Маликову), на чувстве (по Чайковскому и Алексееву), на самодисциплине и самоограничении (по Фрею) в коммуне не получалось. В то же время нормальная человеческая любовь — мужчины и женщины — возникала и укреплялась и в этих условиях. Распавшаяся семья А.К. Маликова дала начало двум новым. Е.А. Маликова вышла замуж за В.И. Алексеева, а сам Маликов женился на К.С. Пругавиной. Но общий моральный климат в коммуне был крайне тяжел.
Встает вопрос: почему в общинах шекеров «критицизмы» воспринимались нормально, а у «богочеловеков» — провалились?
Видимо, они не были готовы к ним ни психологически, ни ментально.
«Критицизмы» шекеров — естественная часть их жизни, если не сказать — быта. «Критицизмы», введенные Фреем — инструмент болезненной переделки человека индивидуального, в человека общественного. И такой инструмент не был ими желаем, по крайней мере, в то время когда задумывалась поездка в Америку. Вспомним, они уезжали из России с мыслью, что им удастся любовью обновить себя самих и дать пример всему человечеству.
Но что должно было привести их к такому обновлению? «Будем любить и всё», — слышится в объяснениях Алексеева. «Отыщем в человеческой натуре новые чувства», — писал Чайковский Д.А. Клеменцу [92,95]. Но как их отыскать? Исповеди не дали результата не из-за отсутствия искренности, а совсем подругой причине: никто из «богочеловеком» не стал, в Америке, по настоящему верующим человеком. И удавалась любовь — обычная любовь мужчины к женщине и женщины к мужчине. А вера — не давалась. Им казалось, что достаточно единства убеждений, общности целей, свободного труда совместного быта для того, чтобы вместе, помогая друг другу пройти весь путь к формированию такой личности, которая забудет все эгоистические устремления и силой одной лишь любви преодолеет все трудности и препятствия на пути к свободному обществу. И даже если признать, что такое, в принципе, возможно, придется констатировать, что средства ими выбранные были негодными. Вместо постоянной поддержки и дружеского участия (что было в самом начале их американской эпопеи), коммунары, уже через год совместной жизни, получили всеобщую слежку, ссоры, взаимные обвинения и горечь неудач.
Глава 8
Распад коммуны «Богочеловеков»
Первым не выдержал А. К. Маликов. Некоторое время он пытался как-то соединить собственную теорию с той практикой, которую «богочеловеки» получили с приездом Фрея. А.И. Фаресов, передал его слова:
«Когда меня осенила мысль, что человек кроме души имеет еще грешное тело и что последнее убеждается и направленной против него силой, то Фрей создал и пассивное насилие…» [79,251].
Эта уступка теории Конта и попытка примириться с критицизмами не дала ничего. Не ужившись суровой дисциплиной, насаждаемой Фреем, Маликов покинул общину, построив себе дом на другом берегу реки. Вместе с ним из коммуны ушли Пругавина, Бруевич, Хохлов. Начался процесс распада общины «богочеловеков», остановить который уже было невозможно. Некоторое время (в начале 1877 г.) время коммуна «богочеловеков» (или то, что от нее осталось) существовала под руководством Фрея. Положение в ней становилось все хуже:
«Эти два года, — вспоминал потом Чайковский, — были сплошным рядом незаметно нарастающих антагонизмов и кризисов, всегда, правда, благоприятно разрешавшихся из-за всепрощающего и всеприемлющего чувства веры, любви и уважения друг к другу. Но — увы — с каждым таким кризисом уверенность в безусловной силе духовного талисмана определять безмятежное течение общинной жизни слабела…» [87,283–284]
И чем больше эта уверенность слабела, тем сильнее в колонистах развивалось чувство тоски по родине, доходившее до степени (в определении В. И. Алексеева): «хоть все брось и беги». Формальный повод к разрушению общины мы можем назвать точно благодаря В.Г. Короленко и Л.Н. Толстому, передавших рассказы А.К. Маликова и В.И. Алексеева. В записках Д. П. Маковицкого (1906 г.) один из рассказов Л.Н. Толстого о «богочеловеках» выглядит следующим образом:
«Община распалась из-за жены N (Л. Н. назвал, я не запомнил). У нее был грудной ребенок, и у нее в груди пропало молоко. Решили приспособить ребенка к корове, и это делалось по нескольку раз в день (…) У коровы убавилось молока. А эта была единственная корова общины, в которой было несколько семей и питались одной кукурузной мукой, забеленной молоком. Из-за коровы вышел раздор, и распалась община» [50,86].