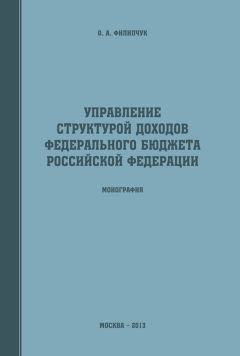Владимир Кулаков - Пруссы эпохи викингов: жизнь и быт общины Каупа
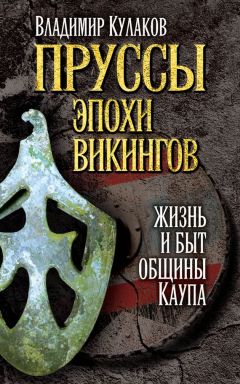
Помощь проекту
Пруссы эпохи викингов: жизнь и быт общины Каупа читать книгу онлайн
Jan Żak still in the sixties assumed XX century that mainly female burials on Moniushka St. belong to the remains of wives of Prussian soldiers brought about the lake of Gotland. The same phenomenon is fixed in a case with a soil burial ground of Daumen/Tumiany VII–VIII of centuries and with synchronous burial grounds in Grobina and Elbląg.
The westbaltic phenomenon in an era of Vikings is connected with such specifics of a congestion of funeral monuments, sacral on the sense, with the Scandinavian lines in southeast Baltic. Trade Emporium of northerners arose here not only in view of convenience of water and overland approaches to the settlement or to a crossroads of trade ways. The places which are historically connected with their ancestors, the sites of the Baltic territory consecrated with centuries-old presence of remains of their relatives were important for newcomers.
Completely meeting Vick’s standards the trade and craft settlement arose only in Truso. In Grobina and on Kaup Scandinavians didn’t manage to take decisive places in these settlements and their activity proceeded under strict control of local power structures. Westbaltic sacral phenomenon became the absence reason in Grobina and Kaup of settlements with the lines typical for the trade and craft settlement of an era of Vikings. The local objects connected with trade and craft activity had other parameters. Trade in hands of the Scandinavian merchants could be carried out in general from courts that the stranger’s foot set foot on land of Balts less often.
Конец I тыс. н. э. был ознаменован для Европы серьёзным испытанием на прочность всех сложившихся к тому времени норм жизни. Этим испытанием стало движение викингов. Однако не для всех регионов нашего континента это сотрясение основ общественной жизни, это последнее крупное столкновение христианской цивилизации и общественно-социальной системы, основанной на принципах традиционной религии, проходило одинаково. Если в западной части Европы напор дружин викингов/норманнов приводил к кровавым эксцессам при столкновении с раннефеодальными государствами западногерманского мира, то в восточной части Балтийского региона приход северян носил преимущественно мирный характер и обладал чертами культурноэтнической диффузии. Это привело к формированию балтийского варианта движения викингов (Кулаков В.И., 1999а, с. 149).
Если первые контакты южной части эстиев, обитавших в янтароносном Мазурском Порозерье, с населением юга Европы приходятся на конец I тыс лет. до н. э., то Самбия для торговцев янтарём была по не совсем ясным до сих пор причинам «закрыта» до сер. I в. н. э. (Nowakowski W., 2009a, s. 114). Лишь в начале второй половины I в. н. э. (рубеж между фазами В1 и В2 хронологической системы Тишлера-Эггерса-Годловского), после описанной Плинием Старшим экспедиции на Янтарный берег, предпринятой отрядом легионеров под предводительством римского всадника, стал формироваться отрезок Янтарного пути, соединявшего устье р. Вислы и Самбию (Koulakov V., 2000, р. 32–35). C севером Европы, в частности – с островами Фюне, Зеланд и Борнхольм, у западных балтов развивались контакты ещё в раннем железном веке (Nowakowski W., 2009b, s. 75). Правда, как считает В. Новаковски, эти контакты явились результатом активности носителей ясторфской культуры. По мнению варшавского коллеги, в контактах с севером Европы эстии Самбии, занятые янтарной торговлей с Римом, принимали малое участие. К сожалению, от внимания В. Новаковски при этом ускользают прямые аналогии в погребальном обряде трупоположений с северной ориентировкой и с конским захоронением, известных в I в. н. э. как на Самбии (Gaerte W., 1928, S. 45–49), так и на о. Готланд (Almgren O., Nerman B., 1923, Textbild 155). Этот факт указывает на прямые этно-культурные контакты между Самбией и лежащим всего лишь в 300 милях к северо-западу от неё о. Готланд. Жители Ютланда также не теряли интереса к Янтарному берегу и, уходя от затопленного морскими водами северной части своего полуострова, частично переселились на Самбию в конце II в. н. э. (Кулаков В.И., 2003, с. 246). Это переселение реконструируется по ряду новаций, появившихся на пороге позднеримского времени в погребальных древностях Самбии. Среди них – конские оголовья типа Vimose, трупосожжения различных форм, лощёные биконические сосуды-приставки. К VI в. связи между жителями Самбии и Скандинавии стабилизируются. Это заметно на примере арбалетовидных фибул с элементами звериного орнамента. Они в сер. I тыс лет. н. э. начинают изготавливаться по западнобалтским образцам в юго-восточной Скандинавии, её обитатели экспортируют их в качестве свадебных даров к западным балтам (Кулаков В.И., 2011, с. 51). В это же время на о. Борнхольм по данным могильников фиксируется западнобалтское присутствие (Klindt-Jensen O., 1957, p. 124–127). Эти диффузионные процессы уже давно отмечаются скандинавскими археологами, пришедшими к выводу об интернациональном характере заселения островов в центральной части Балтийской акватории на пороге эпохи викингов (Callmer J., 1992, p. 102106). Этно-культурная диффузия, начавшаяся между населением Янтарного берега и совр. Литовского Взморья с обитателями юго-восточного берега Скандинавии привела, в частности, к возникновению на заре эпохи раннего средневековья социальной близости и матримониального родства между народами указанных регионов, не разделёнными, а, скорее, соединёнными водами Балтики. Это – специфическая черта балтийского варианта движения викингов (Кулаков В.И., 1999б, с. 199, 200).
Первым фактом реализации балтийского варианта движения викингов было возникновение в сер. VII в. н. э. группы памятников археологии скандинавского облика в окрестностях совр. г. Grobina (Латвия). Эта группа имела важное, фактически – ключевое значение для развития движения викингов на востоке Европы. «Скандинавское население обитало на берегах р. Аланде, являясь авангардом для последующей колонизации Руси и Исландии» (Bogucki M., 2006, p. 103). Все археологи, занимавшиеся историей движения викингов, считали (и автор этих строк тоже) Grobina первым торгово-ремесленным поселением, возникшим под скандинавским влиянием на землях балтов. Порядок возникновения таких поселений выглядел так: Grobina – ок. 650 г., Truso (Hansdorf/Janow Pomorski) – ок. 700 г., Kaup – нач. IX в. (Кулаков В.И., 2009, с. 156). Правда, настораживало отсутствие этно-культурных маркеров скандинавского присутствия на поселении Grobina. В 1950 г. на одном из поселений в окрестностях совр. г. Grobina были сделаны немногочисленные находки, которые в высокой долей условности можно связать с результатом пребывания викингов на этой земле (Virse I.L, Ritums R., 2012, р. 34–37). Но эта неясность с поселением искупалась богатейшим материалом, происходившим с курганных и грунтовых могильников по берегам
р. Аланде. Считалось бесспорным, что «основным центром связей восточной Балтики со Скандинавией с 650-х годов становится Гробини (Себург)… Открытое поселение сопровождали курганные и грунтовые могильники…» (Лебедев Г.С., 2005, с. 264). Менее категорично относительно наличия открытого торгово-ремесленного поселения в Grobina настроен Матеуш Богуцки, публикуя схему Биргера Нермана с гипотетическими поселениями на берегах р. Аланде. При этом польский коллега признаёт, что весь массив скандинавских находок из Grobina происходит из различных по своей форме погребений (Bogucki M., 2006, p. 95). Авторы послевоенных раскопок комплекса памятников археологии Grobina Валерий Петренко и Юрис Уртанс представляют схему этого комплекса лишь с двумя поселениями – средневековым замком Grobina и городищем Skabarza. Открытое поселение, которое могло быть оставлено населением, которому принадлежат скандинавские захоронения, известные в трёх близлежащих могильниках со скандинавскими чертами в обряде и в инвентаре, к настоящему времени убедительно не идентифицировано (Petrenko V., Urtäns J., 2012, p. 100). Попробуем уточнить характер скандинавского поселения Grobina при помощи уникального письменного источника – «Жития Св. Ансгария», оставленного Римпертом:
«Власти свеонов издавна подчинялось некое племя, обитавшее далеко от них и называвшееся куры (лат. Cori). Но вот уже в течение долгого времени куры бунтовали и не признавали их власть. Зная об этом, даны в то время, когда епископ (Ансгарий) уже прибыл в Свеонию, собрав множество кораблей, отправились в тамошнюю страну, желая разграбить добро ее жителей и подчинить их себе. В этом государстве было пять городов.
Итак, жившие там люди, узнав об их приходе, собрались вместе и стали мужественно бороться и защищаться. Одержав победу и уничтожив в резне половину данов, они разграбили половину их кораблей, захватив у них золото, серебро и много другой добычи.
Услыхав об этом, вышеупомянутый король Олаф и народ свеонов, желая стяжать себе имя тех, кому удалось совершить то, чего не сделали даны, тем более что раньше куры подчинялись им, собрали бесчисленное войско и явились в тамошние края. Сначала они неожиданно подошли к некоему городу их государства (urbem regni ipsurum vocatur Seeburg), называемому Сеебург, в котором находились семь тысяч воинов, и, совершенно опустошив и разграбив, подожгли его.
Оттуда ободренные духом, оставив корабли, они за пять дней с свирепыми сердцами поспешно прибыли к другому тамошнему городу (urbem), который звался Апулия. Было же в этом городе пятнадцать тысяч бойцов. Итак, когда они подошли к городу, жители заперлись в нем. Они стали осаждать город снаружи, те мужественно защищать его изнутри; они гнали их внутрь, те отбрасывали их наружу. Так прошло восемь дней. Всякий день с утра до вечера усердствовали враги в битве, и многие с обеих сторон пали, однако ни те, ни другие не могли добиться победы. И вот, на девятый день народ свеонов, утомленный столь долгой борьбой, начал изнемогать и с испугом и дрожью в сердце помышлять лишь о том, как бежать оттуда, говоря: “Здесь нам не будет удачи, а корабли наши далеко”. Ибо, как мы говорили выше, путь до гавани, в которой стояли их корабли, составлял пять дней. И когда они, приведенные в чрезвычайное замешательство, совершенно не знали, что им делать, было решено выяснить посредством жребия, кто из их богов желает им помочь, дабы они либо победили, либо ушли оттуда живыми. И вот, бросив жребий, они не смогли отыскать никого из богов, кто бы хотел оказать им помощь. Когда об этом было объявлено в народе, в лагере раздались громкие стоны и вопли, и оставило свеонов всякое мужество. Они говорили: “Что делать нам, несчастным? Боги отвернулись от нас и никто из них не помощник нам. Куда убежим мы? Вот, корабли наши далеко, и когда мы будем бежать, враги, преследуя нас, совершенно нас истребят. На что надеяться нам?”