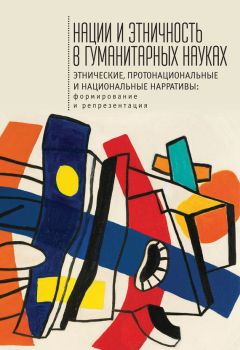Сюзанна Шаттенберг - Инженеры Сталина: Жизнь между техникой и террором в 1930-е годы
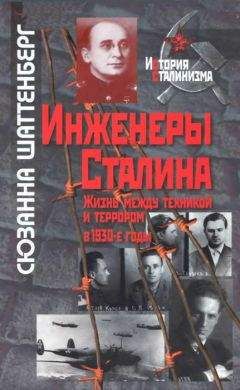
Помощь проекту
Инженеры Сталина: Жизнь между техникой и террором в 1930-е годы читать книгу онлайн
На Западе советские мемуары оказались в поле зрения историков только в 1990-е гг., однако в России и Советском Союзе биографическая литература имеет давнюю традицию{41}. Это в значительной степени объясняется исторической концепцией большевистской партии, которая выдвинула идею, что наиболее подходящими историками для страны победившего пролетариата являются именно рабочие. В начале 1930-х гг., когда историческая наука по большей части еще подвергалась опале как реакционная дисциплина, трудящихся призвали записывать их личную историю индустриализации, дабы создать аутентичную картину великого советского строительства. Такой подход имел два преимущества: с одной стороны, утвердилась новая историография, фокусирующая внимание на промышленном строительстве, с другой — слияние личной истории с историей советского государства помогало пишущим идентифицировать себя со своим государством и почувствовать себя новыми, советскими людьми. Максим Горький (1868-1936) был инициатором этой исторической кампании и добился основания издательства «История фабрик и заводов», единственная задача которого заключалась в издании повествований рабочих и инженеров{42}. Собранные интервью и записи тщательно редактировались, часто заново переписывались профессиональными авторами и публиковались в сборниках, посвященных истории различных промышленных предприятий{43}. Содержащиеся в этих сборниках краткие биографии претендовали на то, чтобы служить примером и в одном фрагменте отражать всю историю Советского Союза и советских граждан. В это же время появились первые, также подвергнутые сильному редактированию или написанные авторами-«призраками» автобиографии выдающихся инженеров, например Глеба Максимилиановича Кржижановского (1872-1959) и Александра Васильевича Винтера (1878-1958), отцов плана электрификации ГОЭЛРО, или Ивана Павловича Бардина (1883-1964) и Сергея Мироновича Франкфурта (1888-1937), руководителей строительства Кузнецкого металлургического комбината (Кузнецкстроя){44}.
Советское правительство опять реанимировало подобное историческое творчество масс в период десталинизации конца 1950-х — начала 1960-х гг. После того как с культом личности было покончено и Сталина перестали превозносить как создателя Советского государства, в главное действующее лицо истории вновь превратился «маленький человек»: в центре внимания советской историографии оказались прежде всего инженеры в качестве подлинных строителей СССР. Наряду с новым изданием томов «Истории фабрик и заводов»{45} в 1960-е гг. вышел в свет ряд автобиографий, в которых инженеры впервые рассказывали и о терроре{46}. Руководители партии, по мнению Хироаки Куромия, считали, что проще и менее рискованно обнародовать правду о былых преступлениях в мемуарах, а не в официальных источниках или исторических научных трудах{47}. Кроме того, мемуары хоть и раскрывали определенные аспекты террора, но одновременно демонстрировали идентификацию их авторов со своей страной, поскольку те писали о себе как о части системы. Конец подобной исторической практике положило свержение Хрущева. В 1970 г. лишился своего поста главный редактор журнала «Новый мир» Александр Трифонович Твардовский (1910-1971), который содействовал публикации многих мемуарных и художественных произведений критического содержания — например, принадлежавших А.И. Солженицыну и И.Г. Эренбургу, инженеру В.С. Емельянову и генералу А.В. Горбатову{48}. Биографии инженеров печатались и в 1970-1980-е гг., но уже не столько с целью создания «подлинной» истории Советского Союза, сколько ради прославления их великих свершений на благо родины{49}. С началом эпохи гласности и распада Советского Союза наступила новая фаза: инженеры опять заговорили о теневых сторонах своего созидательного труда. Теперь и в России появилась возможность писать о специалистах, подвергавшихся преследованиям, — горном инженере Петре Иоакимовиче Пальчинском, металлурге Владимире Ефимовиче Грум-Гржимайло, открыто критиковавшем грандиозные проекты, или авиаконструкторе Роберте Людвиговиче Бартини, сидевшем в лагере вместе с Андреем Николаевичем Туполевым{50}. Впервые появились также работы об эмигрировавших инженерах{51}. Кроме того, были заново написаны истории жизни и деятельности других, давно известных специалистов{52}. Одновременно продолжалась публикация мемуаров, не содержавших принципиально новых высказываний о Советском Союзе, — их авторы сохраняли приверженность прежним оценкам{53}. Многие из этих материалов издавались в качестве доказательства той или иной части долгое время замалчивавшейся «объективной» истории, но российские историки все в большей мере интересуются личными свидетельствами и как выражением субъективно пережитого в определенную эпоху{54}. В 1930-е гг. биографии использовались для того, чтобы обеспечить идентификацию с системой, в 1960-е помогали распрощаться с культом личности, в 1970-е служили для прославления достижений советского народа. Сегодня же они более не являются объектами манипуляции или функционализации — их уважают как исторический источник.
Поток изданий таких субъективных источников постоянно растет как на Востоке, так и на Западе. Стивен Коткин считал главным недостатком собственной работы то обстоятельство, что он не обнаружил «личных записок»{55}, но вряд ли какой-нибудь еще историк сможет сказать то же самое в будущем.
До сих пор, однако, мемуары в основном сортировались, издавались и комментировались. В исследованиях они, как и прежде, главным образом применяются как иллюстративный материал; часто из них извлекаются только даты жизни или выразительные цитаты, без учета целостной картины, которую рисует человек, характеризуя себя и свое время. Настоящая работа представляет собой попытку систематической оценки мемуаров и полной концентрации на личностях (в данном случае инженеров) и специфическом изображении их жизни.
Такой подход таит в себе определенные проблемы. Прежде всего историческая наука в целом относит автобиографии к числу «зыбких» источников. В то время как за текстами законов, документами, протоколами, отчетами комиссий, официальной статистикой и т. п., как правило, признаются объективность и достоверность, мемуары считаются не только субъективными, но и ненадежными. Они отнюдь не передают «историческую действительность» точь-в-точь, чаще всего пишутся через много лет после пережитого{56}. «Источник» воспоминаний о жизни — память, действующая выборочно. Записывается определенная подборка событий, оценка которых может быть сегодня иной, чем 30 лет назад{57}. То, что раньше ощущалось как тяготы и лишения, сегодня воспроизводится в сознании как подвиг, неприятное может быть вытеснено из памяти, а произошедшее в начале 1930-х гг. в воспоминаниях вполне способно соскользнуть в конец десятилетия. Рассказчик или рассказчица иногда сознательно, иногда неосознанно организует, структурирует и компонует в последовательное, логичное повествование отобранные, оцененные по-новому элементы воспоминаний. При этом большую роль играет то обстоятельство, каким намерением руководствовался автор, создавая мемуары, желал ли он исповедаться, оправдаться, оставить в качестве летописца свидетельство о своем времени или вследствие историко-политических переломов по-новому определить прошлое и убедиться в неизменности собственного «Я»{58}. В зависимости от мотивации жизнеописание может получиться очень разным. Возникает повествование, претендующее на то, чтобы показать жизнь автора, и тут же вызывающее вопрос, насколько оно соотносится с «действительно прожитой жизнью». Но ведь «аутентичной жизни» нет. Событие не существует в своей чистой форме: едва свершившись, оно покрывается оболочкой толкований, интерпретаций и оценок. «Голые факты» бывают только в теории; на практике их нельзя отделить от историй, рассказанных на их основе и по их поводу{59}. Поэтому мемуары — текст, который в момент написания представляет для автора его жизнь. Его мир именно таков; другого, скрывающегося «за рамками» или «более подлинного», для данного человека не было. С помощью автобиографий можно реконструировать как раз то, что ищет культурная история, — ценностные критерии, поведенческие модели, субъективные миры.
Это не значит, что мы возводим собственноручные жизнеописания в ранг абсолютных истин. Чтобы лучше оценить и упорядочить рассказанное, автобиографии, во-первых, сравниваются между собой, что позволяет установить, где мы имеем дело с оценками, общепринятыми для своего времени, а где встречаем индивидуальные суждения, в каких местах повествования противоречат друг другу, а в каких кто-то из авторов оставил пробелы. Во-вторых, мемуары включаются в контекст имеющихся данных и релятивируются путем сравнения с иными источниками — газетами, журналами, архивными материалами. Цель этого сравнения заключается не в том, чтобы разоблачить рассказы инженеров как «фальшивку» или, например, упрекнуть их в приукрашивании прошлого. Нас главным образом интересует вопрос, как инженеры пришли к оценкам и суждениям, которые мы сегодня находим в их записках.