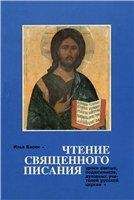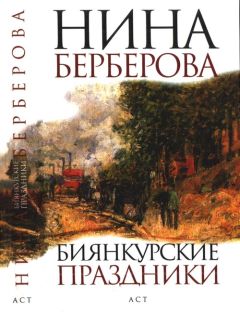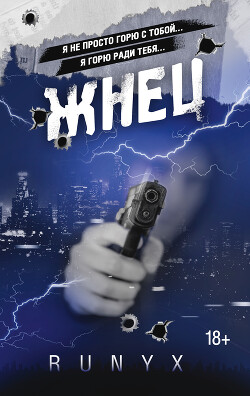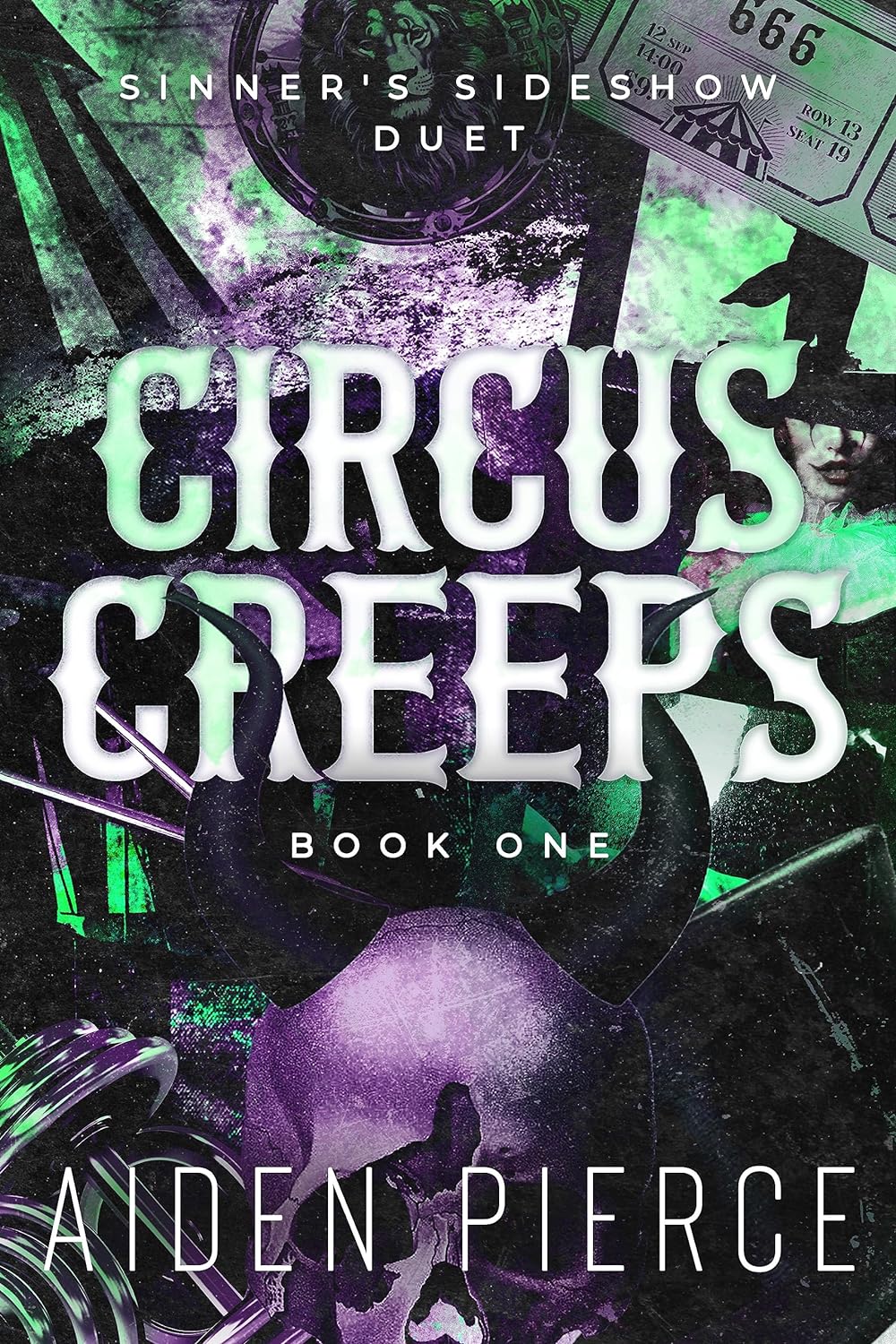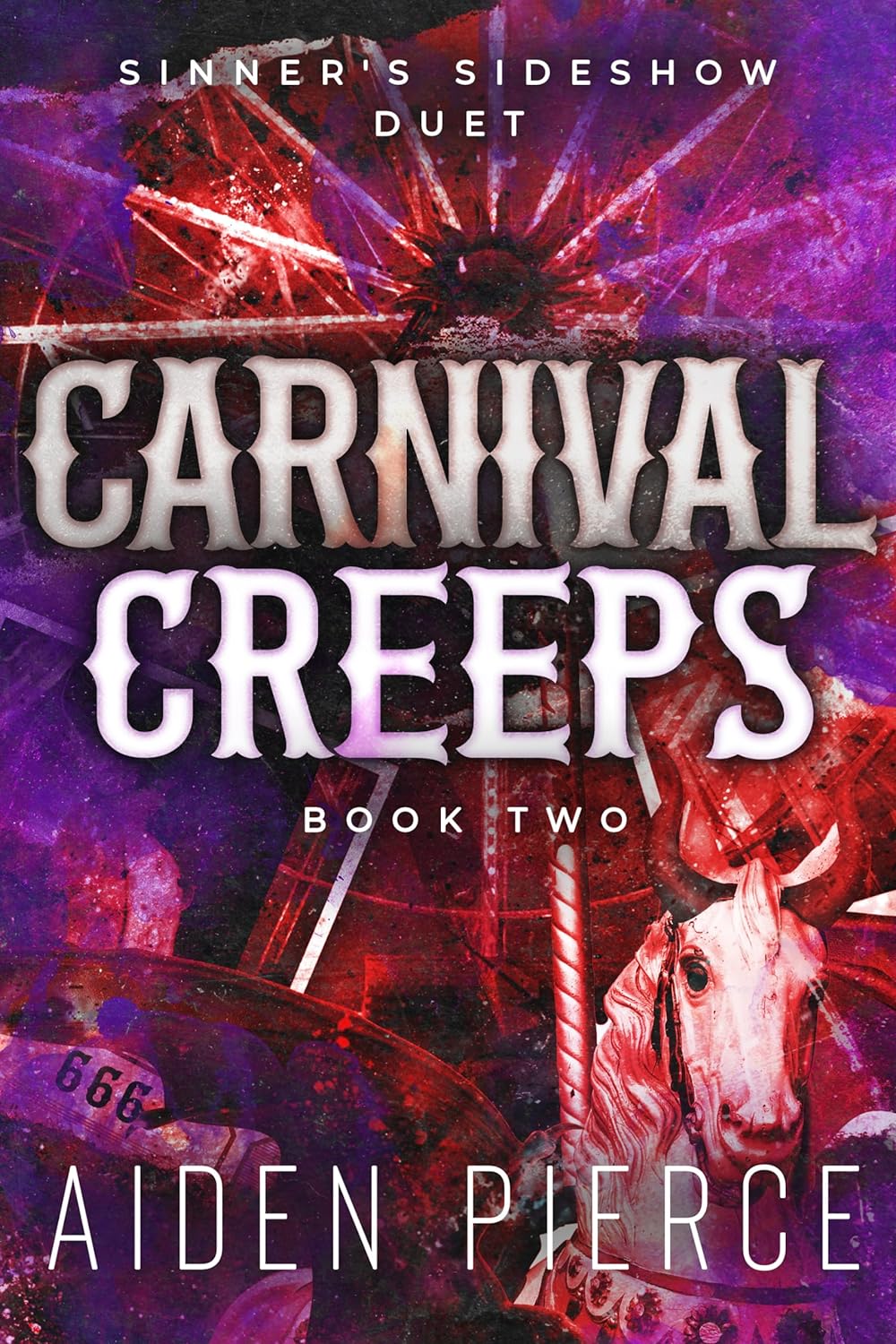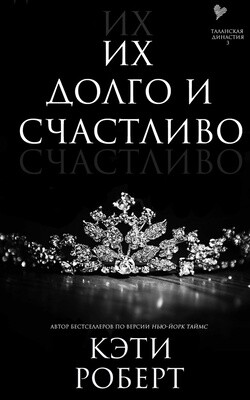Нина Берберова - Чайковский

Помощь проекту
Чайковский читать книгу онлайн
В этих поездках жизнь возвращала ему забытых людей — прежних консерваторских учеников своих он встречал профессорами консерваторий. С Дезире Падилла он виделся на светских раутах. Все эти встречи были похожи на прощания — словно он памятью возвращался к прошлому, чтобы навеки с ним расстаться. Жизнь вернула ему впавшую в детство воткинскую «сестрицу», которая теперь проживала в Каменке и думала, что Петруше все еще шесть лет, и однажды ему пришло письмо от Фанни: Фанни, мадемуазель Фанни, после сорокапятилетней разлуки напомнила ему о себе, прослышав о его славе.
Это было почти то же самое, как если бы его покойная мать вернулась к нему. Фанни просила о свидании, вспоминала воткинские годы, спрашивала про всех родных. Она помнила все, сохраняла его детские тетрадки. Он несколько дней не мог прийти в себя: как, неужели она жива, неужели он увидит ее, и оживут лучшие годы его жизни: брат Коленька, неизменный товарищ игр; уральские черные ночи страшных сказок; материнская рука на его вихрастом затылке, санный путь по берегу Камы. Детство… Он обещал ей в первую же поездку за границу навестить ее, но только через полгода, проездом из Базеля в Париж, заехал в Монбелиар.
Маленький городок со старой церковью и главной улицей, обсаженной деревьями, показался ему похожим на русский заштатный городок. В тихой улице ему указали на мещанского вида домик. Когда он вошел, к нему навстречу поднялась толстая старушка, лет семидесяти, с красным лицом. Он узнал ее сразу. «Пьер!» — сказала она тихо и заплакала. Заплакал и он. Она усадила его в кресло, расспросила про всех, даже про тех, кого он сам давным-давно забыл. Она вспомнила его мать, вместе с его детскими дневниками вынула несколько старых писем к ней Александры Андреевны. Он смотрел на нее, на ее, без единого седого волоса, маленькую, аккуратную прическу, на ее живые движения. И из жизни своей, из этой томительной, страшной и чем-то неполной симфонии, выводил памятью волнительную, пронзительную тему, начинавшуюся тогда, когда он был «стеклянным мальчиком», когда впервые для него зазвучала ария Церлины из моцартова «Дон Жуана», сыгранная старой оркестриной, в которой сипели и хрипели валы; когда заезжий польский офицер играл ему мазурки Шопена — еще до болезни спинного хребта, полученной по наследству от дедушки Ассиера, до туманной и роковой встречи, на заре юности, с таинственным, обольстительным проходимцем Пиччиоли.
Он просидел у нее весь день и назавтра опять пришел с утра. Обедать она отсылала его в гостиницу: она до сих пор жила уроками и достойным образом угостить его не могла. Он предложил ей денег, но она отказалась. В городе не было человека, который бы не был обязан ей грамотой.
Жизнь возвращала ему друга юности его — Аннет. Правда, ее он никогда не терял из виду, но в последнее время он все чаще писал ей — преимущественно шутливо; сквозь эту шутливость она угадывала все то, что он хотел сказать ей всерьез и не мог, и он был благодарен ей за ее понимание. Жизнь, отняв у него «лучшего друга», может быть, хотела вознаградить его за эту потерю, но награды эти казались ему, при всей их прелести, слишком ничтожными. Надежды Филаретовны он все равно забыть не мог.
И опять, как бывало: «работать, работать», звал он себя к настоящему и единственному делу. «Как сапожник шьет сапоги», — так он делал «Щелкунчика» и так писал «Иоланту». Для «Щелкунчика» Петипа разметил ему такты — оставалось только заполнить их:
«Nr. 1. Musique douce. 64 mesures.
Nr. 2. L'arbre s'eclaire. Musique petillante de 8 mes.
Nr. 3. L'entree des enfants. Musique bruyante. 24 mes.
Nr. 4. Le moment d'etonnement et d'admiration. Un tremolo de quelques mes.
Nr. 5. Marche de 64 mesures.
Nr. 6. Entree des incroyables. 16 m. rococo.
Nr. 7. Galop.
Nr. 8. L'entree de Drosselmeyer. Musique un peu effrayante et en meme temps comique. Un mouvement large de 16 a 24 mes.».[8]
Он прилежно заполнял их музыкой. Когда он кончил оба заказа, он заставил себя сделать облегченное переложение для фортепиано «Щелкунчика», исправить клавираусцуг «Иоланты», а заодно облегчить и другие переложения своих сочинений: их делали когда-то Танеев, Клиндворт, но все они были слишком трудны для Боба, и, заваленный корректурами, тупея над правкой их, он просидел несколько месяцев в Клину.
Во сне ему снились нотные знаки, роковым образом делавшие не то, что им следует делать. Так часто бывало и раньше: когда он писал «Спящую красавицу», он видел себя каждую ночь танцором. Вставал он по-прежнему рано, и в жизни, наедине с самим собой, у него появилась какая-то спешка. Он всегда ходил скоро, ел скоро, темпы, дирижируя, брал скорее, чем следовало. Сейчас он спешил с работой, доводя себя до головных болей, до дрожи — все равно, была ли это инструментовка «Иоланты» или новая симфония, которую он задумал писать в зиму 1891–1892 гг.
Он писал ее без особого увлечения, торопливо и сумбурно, и, уже доканчивая наброски, увидел, что ничего нового, сильного, глубокого в ней не сказал. Он уничтожил ее, не проиграв никому: он помнил неудачу с балладой для оркестра, написанной год назад на пушкинского «Воеводу».
«Воеводой» он дирижировал в первый раз в концерте Зилоти и, едва отдирижировав, в артистической, в бешенстве, красный, задыхающийся, изорвал ее партитуру, сказав, что такую дрянь нельзя играть. Как успокаивали, как уговаривали его друзья!.. Во второй раз он уже не хотел повторения того же самого. И от симфонии не осталось следа.
Но месяцы шли. В ежедневной работе, в разъездах одно желание неотступно преследовало его: желание написать, наконец, что-то такое, после чего смерть, «курносая гадина», была бы ему не страшна. У себя в Клину, в ежедневной, непрекращающейся тоске, и за границей, когда необъяснимое отчаяние охватывало его, он не переставал об этом думать. Симфония. Новая симфония. Шестая. О том, для чего он жил на свете. О том, что он когда-нибудь умрет — и, вероятно, скоро. О его любви, о которой он не смеет сказать вслух.
При мысли о «курносой гадине» он иногда перечитывал свое завещание, составленное несколько лет тому назад. Он решил переделать его, придать ему требуемую законом форму. Все права свои — авторские, как русского композитора, — он оставлял ему, Бобу Давыдову, — он этим как бы дарил ему все, сотворенное когда-либо, все, самое дорогое. Алеше он оставлял обстановку Клинского дома; «капиталы», если таковые окажутся, — Жоржику, незаконному Таниному сыну, усыновленному Николаем Ильичом; ему полагалась, кроме того, пенсия в сто рублей в месяц. Младшему Бобиному брату, Уке, он просил отдать эмалевые часы, если они когда-нибудь найдутся.
«Клянусь! В последний раз!» — говорил он себе, уезжая опять за границу, на этот раз в Кембридж, где должен был получить лично звание доктора honoris causa.
Случилось именно так, как он предсказывал: он внешностью стал походить на ученого с несколько сановными манерами, и это ему шло. В России такая европейская внешность придавала ему благородство, в Париже — вместе с его стильной французской речью это составляло одно целое. В Англии он прекрасно разыграл с остальными кандидатами — Сен-Сансом, Бойто — всю комедию: шествовал в подобающем костюме, кланялся, красовался, благодарил. Вся церемония не слишком измучила его: что была для него подобная церемония, когда он только и делал в последние годы, что шествовал, красовался и благодарил!
Но то, что происходило внутри него, напоминало по силе, по безвыходности 1877-й год, только тогда он мог кинуться в какие-то решения, делать какие-то шаги, о которых до последнего мгновения никто не знал, от которых он мог ожидать спасения. Сейчас он был на виду. Каждый выход его из дому бывал замечен. Каждый человек, которого он приближал к себе, становился любопытен окружающим. Внутренняя буря, свирепствовавшая в нем и причинявшая ему такую боль, — было единственное, о чем еще не догадывались люди, всякое ее изживание повело бы к ее раскрытию.
Но с каким искусством, с каким самообладанием скрывал он ее!
Всю жизнь он умел нравиться и теперь не только «четвертая сюита» сопровождала его повсюду в Петербурге, приезжала за ним в Москву. Молодые московские музыканты взирали на него с восторгом и уважением: он не только умел говорить с ними, учить их, ободрять, он помогал им, когда бывало нужно. Юлия Конюса послал по своим следам в Америку, оперу молодого и особенно им любимого Рахманинова, «Алеко», благодаря ему приняли к постановке в Москве и в Киеве. Танеев учил их, он ими руководил. Как только они подрастали, они становились его приятелями: с Глазуновым и Лядовым он уже несколько лет был на «ты».
Но они были и первыми его судьями, первыми — после Боба. И в те дни, когда в феврале 1893 года он спешно, карандашом, на некрашеном столе, в спальне, набросал первые такты новой своей вещи, он написал Бобу:
«Мне хочется сообщить о приятном состоянии духа, в коем нахожусь по поводу моих работ. Ты знаешь, что я симфонию, частью сочиненную и частью инструментованную, осенью уничтожил. И прекрасно сделал — ибо в ней мало хорошего, — пустая игра звуков, без настоящего вдохновения. Во время путешествия у меня явилась мысль другой симфонии, на этот раз программной, которая останется для всех загадкой, — пусть догадываются, а симфония так и будет называться „Программная симфония“ (№ 6). Программа эта самая, что ни на есть, проникнутая субъективностью, и нередко во время странствования, мысленно сочиняя ее, я очень плакал. Теперь, возвратившись, сел писать эскизы, и работа пошла так горячо, так скоро, что менее чем в четыре дня у меня была готова совершенно первая часть и в голове уже ясно обрисовались остальные. Половина третьей части уже готова. По форме в этой симфонии будет много нового, и, между прочим, финал будет не громкое аллегро, а наоборот, самое тягучее адажио. Ты не можешь себе представить, какое блаженство я ощущаю, убедившись, что время еще не прошло и что работать еще можно. Конечно, я, может быть, ошибаюсь, но кажется, что нет. Пожалуйста, кроме Модеста, никому об этом не говори».