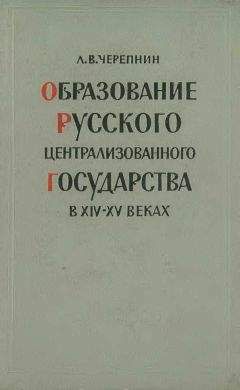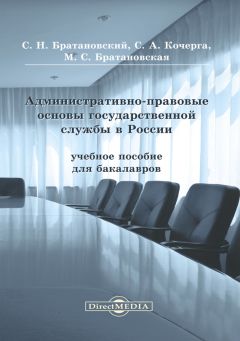Арсений Насонов - «Русская земля» и образование территории древнерусского государства
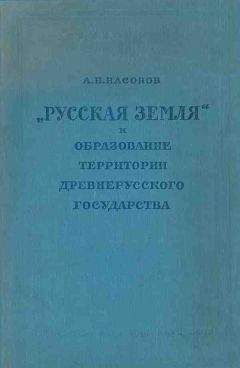
Помощь проекту
«Русская земля» и образование территории древнерусского государства читать книгу онлайн
В соответствии со своим пониманием общественно-политического строя Киевского государства С. В. Юшков выдвинул новую теорию — теорию превращения в Киевской Руси дани в феодальную ренту. По ряду соображений принять эту теорию не считаем возможным{56}. Разумеется, частично дань в феодальную ренту переходила. Следует подчеркнуть, что дань остается особой разновидностью феодальной эксплоатации; источники не дают оснований полагать, что граница между поборами, собираемыми государственным аппаратом, и феодальной рентой отдельных землевладельцев стирается. Сказанное отнюдь не противоречит тому, что дань в раннюю феодальную эпоху обычно делилась, что из нее выделялись доли в пользу тех или иных феодалов. Конечно, с развитием феодального землевладения значение дани среди других источников обогащения знати падало.
М. Д. Приселков касался вопроса о территории «Русской земли» в связи с вопросом о полюдье, которому посвятил несколько страниц в статье «Киевское государство второй половины X в. по византийским источникам»{57}. По его мнению, пределы «Русской земли» определяются полюдьем. В полюдье ездили из Руси в пределы «внешней Руси»; последний термин М. Д. Приселков взял у Константина Багрянородного.
Вывод, сделанный Приселковым, содержит в себе принципиально новое{58}. Он определяет пределы «Русской земли» территориями Киевского, Черниговского и Переяславского княжеств, полагая, что они не знали полюдья. Ссылаясь на летописи, автор недооценивает показания русских источников. Если под «княжествами» он разумел известные нам княжества второй половины XI и XII вв., то их пределы только частично совпадают с пределами «Русской земли». Если же он говорит о каких-либо княжествах X в., то непонятно, откуда он черпает сведения о территории этих предполагаемых им княжеств. Пределы «внешней Руси» он определяет преимущественно течением Днепра, Ловати и Ильменя. Между тем Константин Багрянородный определяет «внешней Русью» только Новгород; что касается других городов и земель, то сказать наверное, что Константин Багрянородный относил их к «внешней Руси», мы не можем. К остальной территории середины X в., лежащей за пределами «внешней Руси», Приселков относит Галицко-Волынский край, Ростово-Суздальский, Полоцк, Туров. Процесс дальнейшего расширения территории Киевского государства он понимает несколько односторонне — как процесс покорения новых «областей» и постепенного освоения киевским княжеским домом этих «областей», игнорируя процесс классообразования на местах как фактор роста государственной территории.
Попытка собрать разбросанные в обширной литературе сведения об образовании Киевского государства была сделана В. В. Мавродиным{59}. Им собрано много сведений, но проблема образования государственной территории автором не выделяется.
М. Н. Тихомиров{60} примыкает к взглядам Иловайского, Ласкина в других, полагая, что название «Русь» — древнее прозвище страны полян.
Б. А. Рыбаков в статье «Поляне и северяне» приводит ряд интересных сопоставлений и наблюдений{61}. Он выделил территорию северян, сохранивших в X–XII вв. свою племенную физиономию (по данным археологии), и указал приблизительно пределы в Среднем Поднепровье древней, докиевской местной культуры. Не со всеми выводами автора можно безоговорочно согласиться. Он утверждает, что Чернигов не был северянским городом, что он лежал не в земле северян. В его аргументации существенное место занимает анализ летописных известий. Он рассматривает их по сводам, реконструированным Шахматовым. В «Древнейшем своде» и в «Начальном своде» он не находит указаний для локализации северян, в «Повести временных лет» он находит указание, что они жили по Десне, Семи и Суле; наконец, рассказ о северянах под 1023–1024 гг. в качестве свидетельства о местожительстве северян Рыбаков отводит.
Если следовать шахматовским разысканиям, то известия под 1023–1024 гг. следует возводить не к «Повести временных лет», а к «продолжению» «Древнейшего свода», к записям XI в., сделанным со слов Никона. Если выводы Шахматова правильны, мы имеем драгоценное свидетельство о Чернигове и северянах, дошедшее до нашего времени. Из этих известий видно, что Мстислав, не принятый киевлянами, сел в Чернигове («и не прияша его кияне; он же шед сѣде на столѣ Черниговѣ»), причем из Тмутаракани он пришел со своею дружиною («поиде Мьстислав на Ярослава, с козары и съ касогы»), что с ним, когда он выступил против Ярослава, была его личная, княжеская дружина («дружина своя») и, кроме того, северяне («сѣвер»). Из текста явствует, что никаких других сил с ним не было, ибо свою личную дружину он поместил на флангах, по обеим сторонам («по крилома»), а посредине, в «челе», поставил «сѣвер», т. е. северян. Летопись ничего не говорит, что северяне были «наемными», да и вообще о наемных северянах в летописях не найдем ни намека. Отвести показания летописного известия под 1023–1024 гг., связывающего северян с Черниговом, мы могли бы только в том случае, если бы нашлись археологические данные о том, что в Чернигове жили поляне или какое-либо другое племя. Между тем Б. А. Рыбаков, признает, что выделить территорию полян по археологическим данным IX–XII вв. трудно, а те древние поляне, которых восстанавливает Рыбаков, также не жили в районе Чернигова. В районе Чернигова другой тип погребения, чем в местах, лежащих восточнее. Это очень интересно и важно. Ясно, что северяне частично утеряли свой племенной облик, хотя далеко не в такой степени, как поляне. Но мы должны признать, что князь, сидевший в Чернигове, опирался на свою личную дружину и на северян. Нет основания думать, что только северян, сохранивших признаки племенной обособленности в материальной культуре, называли тогда северянами. Население Киева считали полянами в XI в., хотя племенные признаки они утеряли. Даже население северянской территории, где находился Новгород-Северский на Десне, в принадлежности которого к северянам Б. А. Рыбаков не сомневается, в некоторой степени также утеряло свою племенную физиономию, как видно из карты, фиксирующей область основного распространения спиральных височных колец. Б. А. Рыбаков считает эти кольца характерным племенным признаком северян; между тем основная область распространения этих колец не шла по Десне, населенной, согласно указанию летописи и данным географической номенклатуры, северянами.
Неясно также, почему «Русь» Рыбаков противопоставляет «славянам». По Рыбакову, в X в. «Русь» и славяне смешались. «Поляне, бывшие раньше ядром антского племенного союза, теперь стали ядром всех восточнославянских племен, стали той Русью, которая объединила многочисленные племена русской равнины»{62}. По всей вероятности, разрешение вопросов, выдвинутых Рыбаковым, следует искать не в этнических особенностях населения, а в социально-экономических и социально-политических явлениях, разрушивших племенную обособленность.
В 1946 г. вышла книга М. Н. Тихомирова «Древнерусские города», которая как будто дает основание считать правильным мнение, что рост внутреннего рынка сыграл решающую роль в образовании тянувшей к древнерусскому городу территории. Бесспорно, автор прав, когда говорит о высокой городской культуре, о раннем развитии городской жизни в Киевской Руси. Он попутно утверждает, что решающую роль в образовании древнерусских городов, в первую очередь областных, играл рост внутреннего рынка и в связи с этим местная сельская округа, торгово-ремесленным центром которой делается город, и что не следует придавать значения водным путям. Вопрос о том, как образовались древнерусские города, не относится к нашей теме. Но ввиду сказанного выше следует отметить, что как раз по этому вопросу (о роли округов в образовании древнерусского города) М. Н. Тихомиров не приводит каких-либо новых данных{63}.
Итак, мы не получаем новых данных, подтверждающих, что рост внутреннего рынка сыграл решающую роль в образовании тянувшей к городу территории. Мы действительно видим много ремесленников в древнерусских городах. Поражает также богатство, высокий уровень техники и высокий художественный уровень ремесленных произведений. Но кого ремесленники обслуживали? Совпадает ли территория сбыта ремесленных изделий данного «областного» города с пределами его «области»? Мы не думаем, что на эти вопросы (особенно — на первый) можно было бы сейчас ответить полностью. Но уже те данные, которые извлечены из археологического материала, делают крайне сомнительной зависимость роста территории «областей-земель» от роста внутреннего рынка.
В 1937 г. в печати обсуждался вопрос об отношении «областного» центра к территории расположения «племенных» ремесленных изделий{64}. Полемика показала, что нет достаточных оснований рассматривать древнерусские княжества как промышленные округа а «областной» город как ремесленный центр «феодальных областей». Само собой разумеется, что господство натурального хозяйства не исключало некоторых форм обмена и что уже в домонгольскую эпоху города в какой-то мере обслуживали сельскую округу.