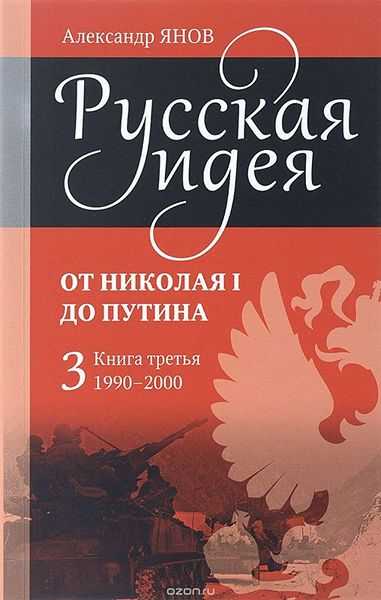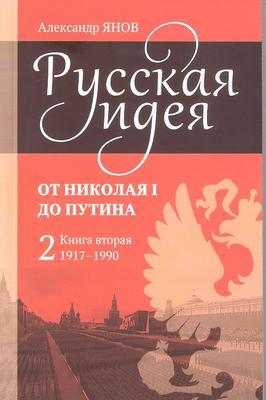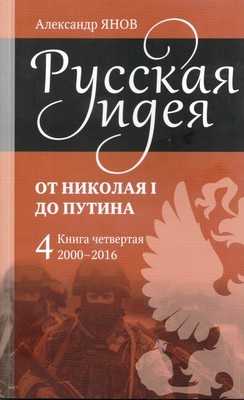Янов Александр - Русская идея от Николая I до путина. Книга III-1990-2000 - Александр Львович Янов
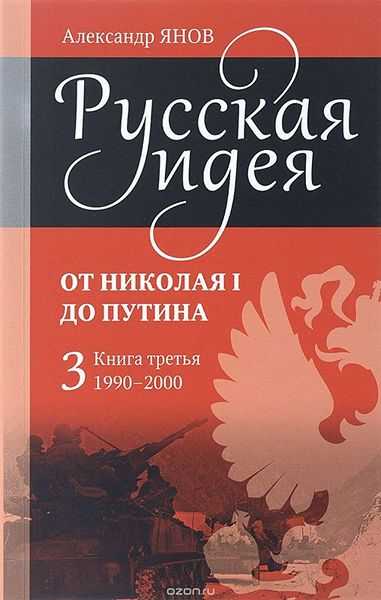
Помощь проекту
Янов Александр - Русская идея от Николая I до путина. Книга III-1990-2000 читать книгу онлайн
Оппозиция?
Начнем с того, что на Съезде почти тотчас обнаружилось МЕНЬШИНСТВО. Причем инакомыслящее меньшинство. Это само по себе было ошеломляющей новостью. Последний раз меньшинство на публичном собрании в СССР было в конце 1920-х, семь десятилетий назад! Многие ли о нем помнили? Правилом было нерушимое единство. И исключений из этого правила не было, исключение равнялось крамоле, страшно сказать, оппозиции. А тут на тебе: «Так вот, уважаемое агрессивно-послушное большинство… давайте все-таки не забывать о тех, кто нас послал на этот Съезд. Они послали нас для того, чтоб мы изменили решительным образом положение дел в стране».
Это из выступления Ю. Н. Афанасьева (ныне, увы, покойного, светлая ему память) после разочаровывающих выборов в Верховный Совет (ВС должен был представлять Съезд в перерывах между сессиями). А в заключение и того пуще: «Мы сформировали сталинско-брежневский Верховный Совет». Можно ли было такое стерпеть? Председательствующий, он же Генеральный секретарь ЦК КПСС, перебил. И услышал от депутата В. Ф. Толпеж-никова: «Я категорически протестую против вмешательства Михаила Сергеевича в выступления депутатов». Мол, Генеральным ты можешь быть у себя в партии, а в этом зале мы все равны, все уполномоченные представители народа. И зал аплодировал. Пришлось стерпеть.
Г. X. Попов тут же развил афанасьевскую тему: «Конечно, на выборах в Верховный Совет партийный аппарат одержал победу. И, в общем-то, победить в этом зале было нетрудно. Но кто, спрашивается, победит инфляцию в стране, кто победит пустые прилавки в магазинах, кто победит некомпетентность руководства?» И опять: «А мы, между прочим, пришли сюда именно для этого дела». Инакомыслящее меньшинство на глазах перерастало в демократическую оппозицию «аппарату». А. Д. Сахаров четко сформулировал ее главное требование: однопартийной диктатуре — нет! Речь, стало быть, шла не больше, не меньше, чем об отмене 6-й статьи брежневской Конституции (о руководящей роли партии). В классической терминологии: Карфаген должен быть разрушен!

Ю. Н. Афанасьев
«Вся власть Советам!»
На майском Съезде такое требование звучало фантазией. Но события развивались стремительно, прилавки магазинов пустели еще стремительней, инфляция набирала темп (анекдот того времени: «Не знаешь, как лучше измерять дензнаки-в километрах или в тоннах»?), демократическая оппозиция крепла, и, представьте себе, не прошло и года, как она своего добилась: на мартовском Третьем съезде 1990 года Карфаген таки был разрушен, 6 статья — отменена.
КПСС, конечно, продолжала существовать, и способность «аппарата» саботировать Перестройку была по-прежнему велика, в первую очередь потому, что сам инициатор Перестройки не только оставался в рядах развенчанного «аппарата» но и был его лидером. Генсеком. Но, конечно, об однопартийной диктатуре речи больше не было. Победа демократов? Бесспорно. Но какая-то двусмысленная, согласитесь, победа. Тем более что повели они за собой большинство под лозунгом АНТИДЕМОКРАТИЧЕСКИМ, под ленинским популистским лозунгом «Вся власть Советам!».

А. Д. Сахаров
Никто не сомневается, что выдвинул этот лозунг в 1917 году Ленин именно для того, чтобы противопоставить его классическому «буржуазному» канону РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ, без которого демократия существовать не может. Может лишь диктатура. Для Ленина как идеолога диктатуры это само собой разумелось. Но демократы конца XX века, все-таки ставили себе целью свержение диктатуры?
Да, для Перестройки лозунг «Вся власть Советам!» был в самый раз: без него немыслимо было развенчание «аппарата». Другое дело ПОСЛЕ революции, после того, как Россия «отвязалась», наконец, от империи и должна была, по идее, приступить к созданию правового государства. В этой новой реальности перестроечный лозунг был на руку только реваншистам. Тем более что число «перебежчиков» из демократического лагеря в реваншистский увеличивалось не по дням, а по часам. Разочарование в реформах нарастало. И главным убежищем реваншистов становились именно Советы. Одним словом, менять лозунг следовало немедленно.
Вспомним, что только между апрелем и октябрем 1917 Ленин менял этот самый лозунг несколько раз. Но Ленин был гением революционной тактики. Увы, среди демократов 1991 года не нашлось своего гения. И старый лозунг остался в силе и после революции, до самого 1993-го, когда его двусмысленность неожиданно аукнулась трагедией. Именно он ЛЕГИТИМИЗИРОВАЛ вооруженный мятеж хасбулатовского Верховного Совета, и впрямь вообразившего себя ВЛАСТЬЮ, единой и неделимой, и принявшегося УПРАВЛЯТЬ страной вместо того, чтобы законодательствовать. Не нужно быть Сократом, чтобы понять, что из этого получилось. Практически все ведущие экономисты страны закричали «караул!» после первых же указов Верховного Совета и обратились к президенту с мольбой немедленно остановить разрушение России. Чем это кончилось, всем известно.
Это лишь один из примеров исключительного невезения революции 1991 года. Почти сразу же после ее начала ей пришлось иметь дело со своей Вандеей. Причем располагалась ее Вандея, в отличие от Великой французской революции 1789 года, не где-то на окраине страны, а прямо в центре столицы. И естественно, руководство мятежом тотчас перехватили реваншистские контрреволюционные силы самого худшего, черносотенного пошиба — от Баркашова до Макашова.
Избежать гражданской войны удалось. Но стигма в национальном сознании осталась: при самом своем рождении революция оказалась омрачена стрельбой по «парламенту», который ни минуты не считал себя парламентом («вся власть Советам!»), и «парламентариям», возомнившим себя правительством. Второй, еще более важный, пример невезучести революции как раз и связан с вынесенной в заголовок драмой Станислава Шаталина, одного из благороднейших и, увы, невоспетых героев Перестройки.

А. П. Баркашов

А. М. Макашов
Несколько слов о Шаталине
Пишу я о нем не только потому, что мы были близки в те неправдоподобно далекие времена, когда мне еще и в голову не приходило, что я когда-нибудь окажусь в Америке, а он, изысканный, насколько возможно это было в СССР, интеллектуал, делал академическую карьеру. Разница между нами объяснялась, по сути, профессией. Я был гуманитарий, историк, а он-блестящий математик-экономист. Мне в брежневские времена светила лишь дорога в самиздат, ему — в Академию наук (математики-экономисты были тогда в цене). Я закончил ко времени нашего знакомства свою «Историю политической оппозиции в России» (обреченную, конечно, быть напечатанной лишь на «Эрике»), а он был на пороге