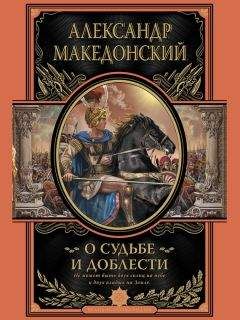Иван Рожанский - История естествознания в эпоху эллинизма и Римской империи
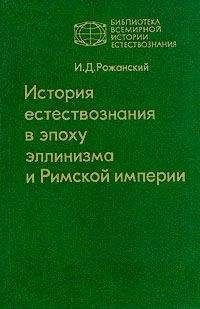
Помощь проекту
История естествознания в эпоху эллинизма и Римской империи читать книгу онлайн
Какие цели преследовались Селевкидами при осуществлении этого грандиозного градостроительства? Если оставить в стороне столицу страны Антиохию, а также имевшую огромное экономическое значение Селевкию на Тигре и несколько больших городов, основанных в Сирии— этой «новой Македонии», то основная масса городов, закладывавшихся Селевкидами в различных областях их царства, имела военно-политическое значение. Ощущая органическую слабость своей державы, раскинувшейся на территории многих стран, сильно отличавшихся по споим географическим условиям и населенных разноязыкими народами, во всех отношениях непохожими друг на друга, Селевкиды считали необходимым спаять эти страны воедино путем создания сети городов, населенных в основном или по преимуществу греками и которые могли бы служить опорными пунктами их власти. Вполне возможно и даже вероятно, что большинство этих городов были первоначально не более как военными поселениями (κατοικίαι), лишь в дальнейшем получившими статус городов. В целях привлечения в эти города максимального числа поселенцев они обычно закладывались на реках или на торговых путях; тем самым предусматривалась перспектива превращения этих городов в важные экономические центры страны. Разумеется, не все новые города строились на пустом месте: некоторые из них были предназначены возродить существовавшие ранее, но пришедшие в запустение или разрушенные войнами городские поселения (к таковым относился ряд греческих полисов на малоазийском побережье Эгейского моря), другие основывались по соседству с уже существовавшими местными центрами (ярким примером такого города может служить Дура — Эвропос на Евфрате, раскопки которого дали так много для понимания различных аспектов эллинистической культуры[106]), третьи создавались путем так называемого «синойкизма», т. е. объединения ряда небольших городков и поселений в один город. Но в любом случае они строились по новому плану с учетом всех достижений греческого градостроительного искусства. Последнее, однако, не означает, что новые города были стандартно-однообразными. Правда, все они создавались на основе принципов, сформулированных великим архитектором V и. Гипподамом: и каждом из них имелась центральная площадь (агора), окруженная храмами и общественными зданиями и от которой отходили широкие прямые улицы, пересекавшиеся, как правило, под прямыми углами. Далее, почти в каждом городе существовали театр, стадион, гимнасии, палестры и другие обязательные компоненты полисов Старой Греции[107]. В остальном внешний вид городов очень сильно варьировался в зависимости от размеров, географического положения, условий местности и функциональных особенностей данного города. Одно дело, если это была столица государства, подобно Антиохии на Оронте, другое — если это была морская гавань, или административный центр провинции (сатрапии), или торговый, военно-политический или просто представительный город — в любом из этих случаев характер города резко менялся.
Кем заселялись новые города, основывавшиеся греками в странах Ближнего Востока? При Александре основное ядро их населения составляли македонские ветераны; лица ставшие непригодными к военной службе; бывшие наемники; штрафники. К ним добавлялись военные гарнизоны, оставлявшиеся Александром для защиты города от возможных нападений извне. Далеко не все из этих поселенцев горели желанием навсегда остаться в Бактрии, Согдиане, Индии и других местах, которые казались им бесконечно удаленными от их родной Греции. Этим объясняются волнения в греческих городах Бактрии еще при жизни Александра и вскоре после его смерти.
У нас нет сведений о том, что подобные случаи происходили также и при Селевкидах. Основные районы, где происходило градостроительство, — Сирия, Месопотамия, Малая Азия — были от Греции не так удалены; они посещались греками с давних времен и потому были им хорошо знакомы. Здесь жители новых городов не чувствовали себя отрезанными от родины, с которой они могли поддерживать регулярную связь. Перенаселенность Старой Греции, невозможность найти адекватное применение своим способностям в родных полисах, надежда на лучшую жизнь и, возможно, на обогащение в новых местах, далее, врожденное греческое стремление к новизне и даже, если угодно, авантюризм, гениально изображенный еще Гомером в «Одиссее», — все это стимулировало невиданный доселе поток переселенцев, желавших обосноваться в новых городах. Помимо греков из различных городов Балканского полуострова, с островов Эгейского моря, из малоазиатской Ионии, среди переселенцев было много более или менее эллинизированных представителей других народностей, населявших северные части Балканского побережья, западные районы Малой Азии, Сирию, Палестину, Финикию. Многие из них, возможно, и не собирались навсегда поселиться в новых городах, но, как правило, по тем или иным причинам оставались там жить. Аристократию среди этих иммигрантов составляли, разумеется, македонцы, а также ссыльные политические деятели греческих полисов, военачальники и командиры армии и флота. Это были люди, в большинстве случаев уже имевшие опыт государственной или военной деятельности. Кроме того, среди иммигрантов было много специалистов, отличившихся в своей области: это были инженеры, строители, художники, актеры и т. д. Эта аристократия оседала в основном в больших городах, и прежде всего в столице — при царском дворе. Большинство же иммигрантов состояло из многих тысяч солдат, отслуживших свой срок и решивших вернуться к гражданской жизни, и десятков тысяч лиц различной классовой принадлежности и самых различных профессий — учителей, врачей, юристов, рядовых актеров и художников, ремесленников, торговцев, всякого рода дельцов и, наконец, просто людей, почему-либо не нашедших применения на своей прежней родине. К сожалению, не существует статистических данных о числе этих иммигрантов, но, во всяком случае, в царстве Селевкидов и в Египте они составляли значительную, а во многих новых городах преобладающую прослойку населения.
Не следует думать, что местным жителям было запрещено селиться в новых городах. Наоборот, такое переселение зачастую поощрялось властями: так, например, значительную часть населения Селевкии на Тигре составляли бывшие жители Вавилона, который, начиная с этого времени, постепенно приходит в упадок. Население египетского городка Канопус, находившегося в устье нильской дельты, было целиком влито в Александрию (о том, что Александрия вскоре сделалась подлинно интернациональным городом, мы еще будем говорить в дальнейшем). Разумеется, лишь немногие эллинизировавшиеся аборигены получали права гражданства в новых полисах: большинство из них селились там на правах метэков, столь хорошо известных нам по городам Старой Греции, образуя свои национальные общины (πολιτεύματα). В этом Деле, впрочем, не существовало единообразной политики: многое здесь зависело от местных условий, а также от умонастроений городских властей.
Новые города отнюдь не были независимыми городами-государствами наподобие полисов классической эпохи. Каждый город находился на земле, которая считалась собственностью царя: он был обязан платить царю определенную подать и поставлять ему солдат для армии. Посредниками между царем и городами служили начальники сатрапии и епархии (все свое царство Селевкиды разделили на 25 сатрапий и 72 епархии). Тем не менее греки всегда оставались греками: и в новых городах они крайне дорожили остатками самоуправления, хотя это самоуправление ограничивалось теперь внутригородскими делами. Формы старой полисной жизни оказались весьма живучими: как и в прежние времена, граждане новых городов собирались на общие собрания и с той же страстностью и увлеченностью обсуждали очередные вопросы — хотя бы это были вопросы всего-навсего о выборе гимнасиарха (руководителя гимнасии) или об установке в общественном месте бюста почетного гражданина данного города. Эллинистические монархи снисходительно относились к такого рода ограниченной полисной демократии и даже поощряли ее. Рецидивы полисной психологии выражались также в чувстве гордости за свой город, в желании всеми силами способствовать его красоте и процветанию. Известны многие случаи, когда богатые граждане того или иного города жертвовали крупные суммы на строительство храмов, на поддержание гимнасий, на организацию празднеств и спортивных состязаний. Эта гордость — быть гражданином небезызвестного города (ούκ άσήμου πόλεως πολίτης)[108] — в небольших городах выражалась, пожалуй, еще резче, чем в огромных блистательных столицах, где близость царя и его двора была слишком сильно ощутимой. Наряду с этой гордостью в сердцах греков не угасала мечта о «свободе», которая нa территориях эллинистических монархий стала уже чистой фикцией. Естественно, что эта мечта в большей степени сохранялась в городах Старой Греции: во-первых, потому, что память о прошлых временах была там еще достаточно живой, а во-вторых, в силу того, что эти города формально никогда не входили в состав новых монархий (в том числе и македонской). Но и гражданам новых городов эта мечта о «свободе» отнюдь не всегда была чуждой. Нередко это приводило к тому, что города принимали за чистую монету заверения очередного завоевателя даровать им «свободу», а потом горько разочаровывались. Отсюда, между прочим, следует, что городам было, в сущности, безразлично, кто над ними в данное время царствует: Кассандр, Деметрий Полиоркет или Антигон Гонат; Птолемеи, Селевкиды или Атталиды. Никаких династических предпочтений у греков эллинистической эпохи не было, и для них был хорош любой правитель, который в наименьшей степени тревожил жизнь города.