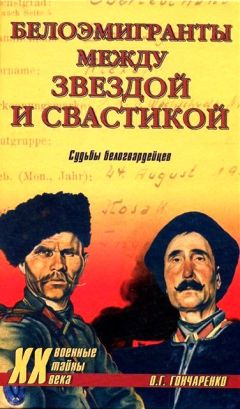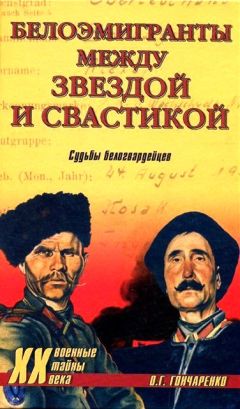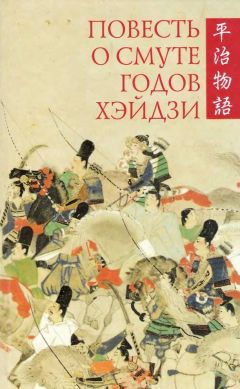Олег Гончаренко - Изгнанная армия. Полвека военной эмиграции. 1920—1970 гг.
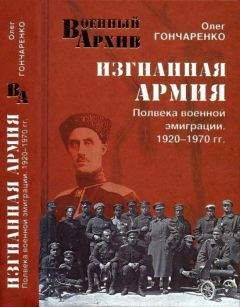
Помощь проекту
Изгнанная армия. Полвека военной эмиграции. 1920—1970 гг. читать книгу онлайн
В августе 1918 года в приволжских городках Ижевске и Воткинске рабочие свергай власть местного Совета и организовали «Ижевскую народную армию», численность которой со временем достигла 70 000 человек. В течение трех с лишним месяцев Ижевская народная армия вела успешные бои против правительственных частей. Лишь уступив напору превосходящих сил противника в 1921 году, «ижевцы» отступили на восток, увозя с собой имущество и семьи, дабы там присоединиться к остаткам былой Сибирской армии. Именно в ней «ижевцам» суждено было стать одной из самых действенных частей этой армии в ходе боев в Сибири и на Дальнем Востоке, вплоть до предпринятого ею спасительного перехода китайской границы в 1922 году, совершенного под натиском красных войск под командованием Василия Блюхера.
В 1919 году большевистская власть, обещавшая солдатам-крестьянам мирную жизнь еще два года назад, энергично призвала к участию в ширящейся Гражданской войне для защиты абстрактных «завоеваний революции». В подобных «завоеваниях», небывало ухудшивших рабочую, да и крестьянскую жизнь и поколебавших их многовековой уклад, они нуждались менее всего. Если крестьянина и не призывали в армию, то в качестве повинности ему предписывалось обеспечить фронт продовольствием. В ответ на призывы комиссаров к мобилизации или их действия по принудительной сдаче хлеба, в 20 губерниях Центральной России произошло 245 выступлений, официально зарегистрированных ВЧК.
В апреле 1918 года против советской власти восстала буквально порабощенная и разоренная ей Область Войска Донского, а спустя восемь месяцев череда народных восстаний прокатилась по всему Поволжью. Правительство Ленина и Троцкого бросало войска для их подавления, но эти жестокие меры не оправдали себя. Стойкость повстанцев поражала даже их усмирителей. В начале 1921 года, когда исход Русской армии генерала Врангеля на Балканы еще не завершился и Гражданская война не была, безусловно, выиграна большевиками, крестьянские повстанцы в Сибири заняли Тобольск, Кокчетав, значительные части Челябинской, Омской и Тюменской губерний, осадив города Курган и Ишим. В Тамбовской губернии в описываемое время под руководством крестьянского вождя Антонова были созданы целых три крестьянских армии, общей численностью в 50 000 человек. В ту пору не было в России, пожалуй, ни одной губернии или даже уезда, где бы ни фиксировались стихийные случаи вооруженного сопротивления властям в ходе проводимой ими продразверстки.
В начале 1920-х годов на подавление крестьянских выступлений властью направлялись новые полководцы, прежде командовавшие не только регулярными частями Красной армии, решавшими оперативно-тактические задачи, но и карательными интернациональными бригадами, используемыми в большей степени для организации массовых казней. Части эти и по окончании Гражданской войны состояли по преимуществу из бывших пленных подданных Австро-Венгерской монархии — чехов и венгров, а также из хорошо оплачиваемых властью китайских наёмников, безразличных к судьбам российского населения, и печально «прославившихся» жестокими и беспощадными мерами усмирения.
В неравной борьбе с плохо вооруженными крестьянами командование красных частей пустило в ход все «новинки» военной техники, в том числе и еще доселе не использовавшееся против населения химическое оружие. Так, в ходе операции в Тамбовской губернии, Тухачевским был отдан приказ о проведении химической атаки на повстанцев. Приказ гласил: «Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами, точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространилось по всему лесу, уничтожая все, что в нем пряталось»{25}. Для усиления психологического эффекта на повстанцев Тухачевский старался использовать все имевшиеся в его распоряжении технические средства, в том числе и аэропланы. На скрывавшихся в лесах повстанцев то и дело сыпались бомбы, их обстреливали из авиационных пулеметов. И по окончании войны Гражданской на территории России разгоралась уже другая «внутренняя война», шедшая следом за затихавшей Белой борьбой на дальневосточных рубежах России.
Война с крестьянами не была следствием недопонимания между властью и многочисленным в России «сельскохозяйственным сообществом», а являлась провокацией большевиков, направленной на выявление его лояльности, способности к сопротивлению, дабы оценить возможные сроки и темпы сокращения его экономической независимости. В планах интернационалистов у власти этот маневр осуществлялся в два этапа: постепенное доведение крестьян сначала до состояния нищеты объемом урожая и введением непомерных налогов на сельскохозяйственный труд, а затем, путём контроля над продажей средств для возделывания земли и промышленных товаров, превращение их в зависимую от центральной власти часть населения. Духовная основа — православная вера, служащая поддержкой и укреплением в моральной правоте сопротивления крестьян, искренне полагавших установившуюся власть «антихристовой», по замыслу большевиков, должна была ослабеть с утратой связи крестьянства и окормлявших его православных пастырей. Развенчание сакральной роли церкви, «отмена старорежимной морали», столь усиленно насаждаемой советской властью в деревне, были призваны заставить крестьянство отречься от своих духовных наставников, изображаемых властью, как исключительно паразитирующей на крестьянской «косности» прослойки.
1.3. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ МАССОВОЙ ЭМИГРАЦИИ ИЗ РОССИИ В 1920-е ГОДЫ
Борьба советской власти с оппозицией в лице двух наиболее значимых в России социальных групп постепенно увенчивалась новыми успехами. С течением времени некому было прийти на помощь восставшим крестьянам и бастовавшим рабочим. Русская армия генерала Врангеля, чью поддержку они так недооценили в ходе Гражданской войны, находилась уже далеко, и средств, необходимых для «весеннего похода», у нее не было.
На всей территории России год от года устанавливалась жесткая диктатура, не терпящая инакомыслия. По мере раскачивания маховика внутренних репрессий, последовавших после победы красных в Гражданской войне, советская власть позаботилась о придании максимальной законности системе гонений, основой для которой первоначально стала принятая в 1918 году первая «советская» конституция. В этом документе эпохи были поставлены вне закона и лишены политических прав все «нетрудящиеся классы и политические группы». Поражения в гражданских правах распространялись не только на определенную категорию лиц, но и на всех членов семьи представителя «нетрудящегося класса». Это в свою очередь обрекало их на лишение распределяемого большевиками продовольствия и, как следствие, на голодную смерть. В дополнение ко всему первая Советская конституция отменила понятие личной вины индивидуума, перенося ее на целые «социальные классы» и просто группы людей. Так, согласно конституции, вне закона оказались и те, кому «не посчастливилось» родиться в семье «трудящихся». Таким образом, под категорию «лишенцев» попали не только все служилые слои Российской империи, представители торговых и промышленных династий, но и клир Российской православной церкви.
Церковная жизнь России тех лет неотделима от жизни большинства населения страны. В дни испытаний, претерпеваемых народом, она и не могла быть иной. Ведь объединяющее духовное начало народа грозило массовым гражданским неповиновением новой власти. Выступления против неё с оружием в руках часто были откликом на призыв духовных авторитетов к сопротивлению богоборческим установлениям властей.
Вот почему уже в первый день объявленного в сентябре 1918 года «красного террора» в ответ на убийство Урицкого мученическую кончину приняли епископ Селенгинский Ефрем (Кузнецов) и председатель Русского монархического союза протоиерей Иоанн Восторгов. Это ему принадлежали обличительные слова о попустительстве народа уничтожению собственных духовных лидеров, и в частности митрополита Киевского Владимира (Богоявленского): «Народ наш совершил грех, — а грех требует искупления и покаяния. А для искупления прегрешений народа и для побуждения его к покаянию всегда требуется жертва. А в жертву всегда избирается лучшее, а не худшее. Вот где тайна мученичества старца-митрополита»{26}.
Массовые расстрелы, о которых сообщалось во всех советских газетах, прошли на Ходынском поле и в Петровском парке, где расстреляли не только епископа Ефрема, но и иерея о. Дмитрия Корнеева вместе со старостой Успенского собора Кремля Николаем Николаевичем Ремизовым. На жаргоне палачей расстрел цинично именовался «отправкой в Иркутск».
В те роковые сентябрьские дни по России прокатилась череда расправ, продолжив появление священномучеников эпохи, первыми из которых еще в 1917 году стали протоиерей о. Иоанн Кочуров, известный ранее как православный миссионер в Северной Америке, и иерей о. Петр Скипетров. Последний погиб, попытавшись воспрепятствовать проникновению красногвардейцев в алтарь Александро-Невской лавры, куда ломились прибывшие большевики под предлогом конфискации «церковных ценностей».