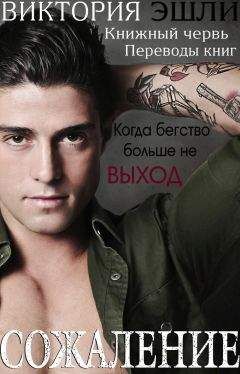Инна Соболева - Утраченный Петербург
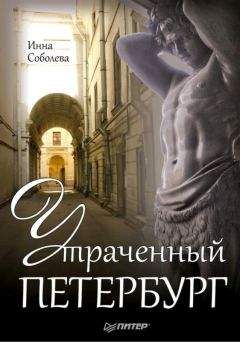
Помощь проекту
Утраченный Петербург читать книгу онлайн
Его сын, Александр Александрович, тоже не был обделен талантом, а воображением обладал необузданным. Это-то, наверное, и прельстило Петра Кольцова, который, судя по всему, был человек с размахом. Полет воображения одного, одобрение (и, разумеется, деньги) другого, соединившись, привели к тому, что в Коломне появился дом, посмотреть на который съезжался весь Петербург. Его сразу окрестили «Домом-сказкой». Что самое поразительное, память о доме, которого нет уже более шестидесяти лет, до сих пор жива. Даже те местные жители, кто никогда не видел волшебного дома, называют стоящее на его месте ничем не примечательное здание на улице Декабристов «Домом-сказкой», безмерно удивляя этим непосвященных.
Чем же заслужил он такую славу, этот давно утраченный дом? А дело в том, что ничего похожего в Петербурге никогда не было. Да, кажется, не было и нигде. В этом странном сооружении причудливо смешались разные — на первый взгляд несовместимые — романтические стили: от «северного модерна» до как раз в то время вошедшего в моду «национального стиля». Окна и балконы самой неожиданной, причудливой формы, угловая башня, многоцветные майоликовые панно, созданные, как уверяли, по эскизам самого Михаила Александровича Врубеля; стены, облицованные природным камнем, создавали на фоне скромной рядовой застройки старой Коломны волшебное зрелище, напоминающее ослепительную театральную декорацию, какой мог позавидовать даже именитый сосед — Императорский Мариинский театр. На фасаде модный в начале века скульптор, барон Константин Константинович Рауш фон Траубенберг, высек из камня двухметровую птицу Феникс, которая словно поддерживала на своих крыльях угловой эркер «Дома-сказки».
Если раньше в доме Масловой селилась добропорядочная публика, как сказали бы сейчас — средний класс, в новый дом один за другим въезжали люди замечательные: академики Федор Иванович Успенский (знаменитый историк), Игнатий Юлианович Крачковский (прославленный востоковед), Матвей Генрихович Манизер (скульптор). Но, конечно, самой известной (и обожаемой) была Анна Павловна Павлова, царица русского балета. В ее роскошной квартире оборудовали репетиционный зал с кафельной печью, расписанной ампирными веночками. Высокий потолок украшал фриз, изображавший танцующих нимф. Именно в этом давно исчезнувшем зале великий балетмейстер Михаил Михайлович Фокин по просьбе балерины в считанные минуты сочинил и поставил для рождественского благотворительного концерта оркестра Мариинского театра бессмертного «Умирающего лебедя» на музыку Камиля Сен-Санса. Уже после первых исполнений он будет признан символом русского балета, несравненным и недостижимым.
Но жизнь в «Доме-сказке» была для великой балерины не только временем творческих взлетов, в ней были тревоги и обескураживающие открытия. Ее гражданский муж, барон Виктор Эмильевич Дандре, по профессии горный инженер, был обвинен в растрате средств, выделенных на строительство Охтинского моста. Она не могла поверить, бросилась на помощь, заплатила огромную сумму, чтобы его освободить. Была убеждена: он докажет свою невиновность. А он. дал подписку о невыезде — и сбежал! Значит, действительно, виноват. Ей было невыносимо трудно с этим смириться. Но уезжая вслед за ним из «Дома-сказки», она не думала, что расстается с Россией навсегда.
Ее уже не было на свете, а поклонники продолжали называть «Дом-сказку» домом Павловой.
А в 20-х годах XX века в доме открыл балетную школу замечательный педагог и балетмейстер Александр Федорович Кларк. У него учились будущие кумиры не только Ленинграда, не только страны, но и всего мира: исполнитель ролей Ивана Грозного и Александра Невского в фильмах Сергея Михайловича Эйзенштейна Николай Константинович Черкасов и дирижер Евгений Александрович Мравинский. Это оттуда их неповторимая пластика, их умение держаться на публике, благородство осанки. Балетная школа работала до начала войны. А в блокаду… В блокаду Александр Федорович Кларк и вся его семья погибли от голода. Погиб и дом. В 1942 году вспыхнул пожар. Считают — от зажигалки (так называли во время войны зажигательные бомбы, которые тушили дежурившие на крышах во время налетов жильцы). Здесь тушить оказалось некому. А может быть, и не зажигалка, может быть, у кого-то не хватило сил справиться с капризной буржуйкой (сегодня многие забыли, что это такое, а другие и не знали никогда; это такая железная печка-времянка, которая только и спасала от мороза, топили буржуйки книгами и мебелью, в том числе антикварной). Да это и неважно теперь, от чего загорелось. Важно, что потушить не сумели. Несколько дней обессиленные дистрофики пытались бороться с огнем, тянули шланги к проруби на реке Пряжке. Огонь не хотел отступать. Веселый, украшенный мозаикой фасад рухнул на глазах у еще остававшихся в живых жильцов «Дома-сказки».
Восстанавливать его не стали, да и вряд ли сумели бы. В общем, еще одна невосполнимая утрата...
Сокрыто от глаз
Опасаюсь, что у многих вызовет протест то, о чем я намереваюсь написать дальше.
Кому-то покажутся неубедительными частности: ну что, в самом деле, говоря об утратах, писать о Таврическом дворце? Вот он стоит. Ухоженный. Аккуратный. А Екатерининский садик чем автору не угодил? Его-то уж точно не назовешь заброшенным! И эти возражения могут показаться справедливыми. Но только на первый взгляд. А первый взгляд, как известно, в большинстве случаев поверхностен. Ведь то, что мы не можем увидеть, даже если оно цело и, что уж совсем маловероятно, невредимо, для нас — утрачено, как если бы его не было вовсе. А если мы знаем, каким прекрасным оно было, это утаенное от нас (или искаженное), — утрата еще труднее переносима.
Начну с того, с чего начинался город — с Адмиралтейской крепости-верфи.
Адмиралтейство
Ее заложили 5 ноября 1704 года. Время было суровое — Северная война. Нападения шведов на новорожденный город можно было ждать в любую минуту, а значит, нужно быть готовыми. Вот и окружили Адмиралтейство валами и глубоким рвом. За рвом — гласис — открытое пространство, необходимое для действий крепостной артиллерии в случае, если враги нападут с суши. К счастью, все эти приготовления оказались напрасными: пушки Адмиралтейства, как и пушки стоящей на правом берегу Невы Петропавловской крепости, не выстрелили ни разу. Гласис превратился в склад под открытым небом. Там хранили корабельный лес, крупные якоря, множество других вещей, которые не слишком страдали от дождя и снега. В 1705 году Александр Данилович Меншиков, ведавший всеми работами в Адмиралтейской части, получил челобитную: «Те мастеровые люди, кои ныне приехали, живут у Адмиралтейского двора, скучают. Чтоб на сей стороне быть продаже съестным припасам и питье вина и пива, для того, что им на другую сторону переезжать с трудом и от дела не надлежит». Просьбу мастеровых «полу-державный властелин» без сочувствия не оставил, распорядился организовать близ Адмиралтейства Морской рынок. Он-то и занял часть гласиса. Там же устроили один из первых в Петербурге кабаков. Назвали «Петровское кружало». Рынок был постоянным источником всяческих тревог: то драки, то обвесы-обсчеты, но главное — опасность пожара. Чтобы оградить Адмиралтейство от такого соседства, рынок и велено было перенести на берег Мойки около Большой першпективной дороги. В 1736 году пожар, которого так боялись, все-таки случился. Выгорело все. Об этом я уже писала в главе «Расстрелянный Растрелли». До гласиса пожар не дошел, да и гореть там было нечему — он зарос травой и уже в те далекие времена стали его именовать Адмиралтейским лугом.
Адмиралтейство с еще открытым двором. Фрагмент панорамы Тозелли
В 1721-м огромный луг разделили на несколько секторов: Петр повелел, чтобы от Адмиралтейства исходили три луча — три главные магистрали города. Два (нынешние Невский и Вознесенский проспекты) успели проложить (точнее — прорубить) при жизни императора, третий (современная Гороховая улица) — уже при Анне Иоанновне, в 1736–1737 годах. Я писала об идее Петра Алексеевича: он хотел, чтобы Адмиралтейство и Александро-Невскую обитель соединяла прямая, как стрела, широкая дорога. Писала и о том, почему это не получилось. Но в 1721-м еще казалось, что получится, и государь приказал посадить березовую аллею, ведущую от главных ворот Адмиралтейства к Большой першпективе (нынешнему Невскому проспекту). Сажали деревья, а потом и мостили будущий главный проспект столицы пленные шведы. Судя по впечатлениям иностранцев, приезжавших по этой дороге в Петербург, работали на совесть. Рассказываю это для того, чтобы было ясно: если смотреть со стороны Невского проспекта (буду называть его привычным именем), Адмиралтейство открывалось во всей своей красе, его ничто не заслоняло. Так задумал основатель города. Так и было. До определенного времени…