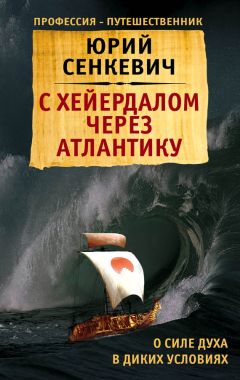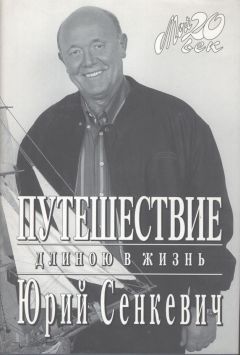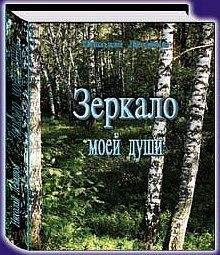Юрий Сенкевич - Путешествие длиною в жизнь
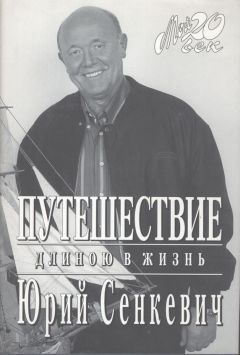
Помощь проекту
Путешествие длиною в жизнь читать книгу онлайн
Помню, как в 1949 году, когда отмечалось 70-летие Сталина, одного из учеников нашей школы, отличника из отличников, по фамилии Кудрявцев, выбрали, чтобы он в группе детей из Ленинграда преподнес вождю всех народов и лучшему другу советских детей цветы и поздравление. Потом, когда он вернулся из Москвы и рассказывал в нашем зале всей школе о том, как он видел Сталина, как они подошли к столу президиума, за которым сидели члены правительства, как преподнесли цветы, как Сталин погладил кого-то из ребят по голове, мы, слушавшие это с умилением, завидовали суперотличнику и суперсчастливчику со страшной силой...
В школьные годы я не был крупным ребенком и долго выглядел моложе своих лет. И только после 8-го класса вдруг стал расти и вымахал за лето сантиметров на десять. И вот однажды моя "моложавость", слишком детское лицо подвели меня. Слава Пожлаков очень любил ходить в Театр музыкальной комедии. Знал чуть ли не всех его актеров, у него даже было расписание спектаклей на каждую неделю. Помню, как он отмечал: "Сегодня идет "Свадьба в Малиновке". Ее я видел. А завтра идет "Дьявольский наездник". Пойдешь со мной?"
Мы пошли с ним на вечерний спектакль. Внешне Слава выглядел старше своих лет, был выше меня ростом. А я... И вот при входе в театр его пропускают, а меня нет: "Куда ты, мальчик? Дети до шестнадцати лет на вечерние спектакли не допускаются". Что делать? Мне действительно не было еще шестнадцати. Пошли со Славой к администратору театра. Тот выслушал нас и спросил:
- И все же сколько тебе лет?
- Шестнадцать.
- Ну вот, если бы ты мне не врал, я бы разрешил тебя пропустить. А поскольку врешь... Выписываю тебе контрамарку на утренний спектакль в воскресенье вместо твоего сегодняшнего билета. Приходи.
- А как же сегодня? Ведь мой друг...
- Врать не надо!
Этот урок я запомнил на всю жизнь, хотя обиделся тогда страшно и, раздосадованный, побрел домой. Правда, с компенсацией в виде контрамарки. Слава, конечно, потом долго надо мной подтрунивал: "Ты, малолетка..."
ШЕСТЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛЕТ
Школу я окончил в 1954 году, и вопроса о выборе профессии для меня не возникло: я знал, что буду поступать в Военно-медицинскую академию. К этому я был подготовлен всей предыдущей жизнью, потому что вырос среди медиков, с детства вращался в кругу сотрудников и слушателей академии. Отец водил меня еще мальчишкой в анатомичку, и, хотя поначалу мне было страшновато видеть трупы, потом я привык к этому - ведь у детей страх перед смертью не столь осознан, как у взрослых.
Теперь-то я понимаю, что отец заранее готовил меня к будущей профессии. Он не только рассказывал мне о великих хирургах XIX века И.В.Буяльском и Н.И.Пирогове, но и водил в прекрасный музей при академии. Там сохранялись всевозможные экспонаты - и учебные, и имевшие отношение к выдающимся медикам... Меня особенно поразила огромная модель височной кости. На самом деле эта кость в нашем черепе маленькая, а в музее находилась модель величиной почти в рост человека. И сделана она была так, что с помощью специальных петель могла раскрываться. То есть на этом огромном экспонате можно было видеть, как устроена височная кость, как через нее проходят сосуды, важнейшие нервы, лицевой, слуховой... Эту модель из цельного куска дерева вырезал знаменитый скульптор барон П.К.Клодт, автор не менее знаменитых конных групп на Аничковом мосту... Что и говорить, в старину обучение в академии было поставлено на серьезную ногу.
Трудностей с поступлением у меня не было. И не только потому, что меня все знали, - я был хорошо подготовлен по общеобразовательным предметам и без каких-либо сложностей сдал вступительные экзамены. На нашем курсе оказалось несколько ребят и из нашей 107-й школы, правда, из параллельных классов. Но все равно мы знали друг друга и потом стали держаться дружной группкой. Таких нас, "академических" парней, выросших на территории академии, было четверо - Володя Шилов, Рудик Яковлев, Виктор Миловский и я. У Володи отец был профессором, преподавал на факультете усовершенствования. Отец Рудика, как и мой когда-то, был начальником курса, отец Виктора преподавал, кажется, на кафедре медзащиты. А мой отец в то время уже был начальником медицинской службы академии.
С одной стороны, наша "принадлежность" к академии облегчала нам жизнь, но с другой - осложняла. Поскольку мы выросли на территории академии, то со многими были знакомы или знали в лицо, но и нас многие знали. И сложность была именно в последнем: мы всегда находились как бы под недремлющим оком, под контролем множества людей. Поэтому, сделай мы что-нибудь не так, родители тут же бы и узнали - особенно не забалуешь. Это нас, безусловно, внутренне дисциплинировало.
Наш курс состоял как бы из двух частей. Одна часть поступивших вчерашние школьники, совсем еще мальчишки, а другая - пришедшие из армии офицеры. Были среди них лейтенанты, старшие лейтенанты, кажется, и капитаны, то есть люди с жизненным опытом. Некоторые уже имели семьи. Эти наши сокурсники казались нам почти стариками. Конечно, поступали они, а потом и учились с большими трудностями, в отличие от нас, у которых еще свежи были знания, полученные в школе. И еще одно существенное отличие: пришедшие в академию из армии в основном учились когда-то в провинции, где школы при всем желании не могли дать своим выпускникам таких знаний, как школы Ленинграда, - ведь здесь еще оставались старые, гимназические преподаватели, прежние традиции. Да и учились-то эти офицеры давно и уже успели порядком подзабыть общеобразовательные предметы. Зато им была привычна армейская дисциплина, а нам еще предстояло с ней познакомиться в полной мере. Такая неоднородность состава нашего курса сохранялась почти до окончания академии, когда грань между нами и "офицерами" начала постепенно стираться. Правда, не до конца.
Как только мы были зачислены на первый курс, нас сразу же отправили в летние лагеря в Красное Село. И тут для меня началась новая жизнь, подчинявшаяся армейским законам. Мы ведь были не просто студентами обычного медицинского вуза - мы были слушателями военной академии. Нас облачили в б/у (бывшее в употреблении) обмундирование, выдали тяжелые кирзовые сапоги, которые было принято называть "гэдэ", то есть говнодавы.
Весь август мы проходили "курс молодого бойца". И хотя я в детстве бывал с отцом в этих летних лагерях, но одно дело видеть эту жизнь со стороны, и совсем другое - быть ее непосредственным участником, испытывать на себе все ее "прелести". А было нам непросто. В течение месяца у нас шли строевые занятия, были марш-броски, мы учились копать окопы, бегать в атаки, разбирать и собирать оружие и еще многому другому, что входило в "курс молодого бойца".
Нас разбили на взводы, а командовали нами курсанты Ленинградского пехотного училища, которым предстояло выпускаться. Именно в лагере они проходили свою предвыпускную стажировку и отыгрывались на нас, как хотели. В те годы "дедовщины" не было, тем не менее эти пехотинцы самоутверждались и солдафонили от души. Мне запомнился командир нашего взвода старший сержант Яков Хейфец. И запомнился не только потому, что муштровал нас безжалостно, а потому, что для всех было загадкой, почему человек с такой фамилией попал в пехоту. Возможно, Яше нравилось быть именно пехотинцем... Не знаю, как сложилась его дальнейшая служба в армии, но до сих пор с улыбкой вспоминаю наше тогдашнее недоумение. Надо отдать должное Яше исполнял он свои обязанности очень хорошо. Помню, как он муштровал нас, чтобы мы научились одеваться за 40 секунд. Для нас было нереально встать в строй в полной форме перед палаткой за столь короткое после подъема время. Поэтому я нашел выход - старался по большей части спать не раздеваясь. После сигнала мне оставалось только быстро надеть сапоги. Благо я ходил в носках, поскольку совершенно не выносил портянок.
Первые три года учебы в академии были особенно трудными. Усвоить, запомнить надо было очень много новых для нас предметов. Биохимия, коллоидная химия, анатомия, латынь... Учиться было непросто даже людям хорошо подготовленным. Что уж говорить о слушателях-"офицерах". Но спуску не было никому - ни нам, ленинградским ребятам, недавно окончившим хорошую школу, ни зрелым мужам-"офицерам". В изучении латыни мне помогало знание английского языка. Да и сам древний язык нравился мне своей хорошо организованной, чеканной красотой. А по анатомии меня "гонял" наш сосед по дому генерал Б.А.Долго-Сабуров, заведовавший кафедрой.
Интересно, что, хотя мы жили с ним на одном этаже, его сыну Валерию, моему сверстнику, в детстве не особенно разрешали дружить с сыном обычного хирурга Сенкевича. И сын генерала от медицины держал дистанцию, тем более что я дружил с другим соседом по лестничной площадке, Сашей Феклистовым, чей отец был всего лишь работником кафедры спецфизиологии, кажется, слесарем, зато мастером "золотые руки".
На первых курсах было очень строго с дисциплиной и распорядком дня. С утра мы ходили на лекции, потом строем шли на самоподготовку, в анатомичку или еще куда-нибудь. Строем же нас водили в столовую. Первый год мы все питались в академической столовой, и только потом, на втором курсе, стало полегче: нам разрешили выбор - кто хочет, пусть питается здесь, а остальные пусть устраиваются по своему усмотрению. Я, конечно, выбрал второй вариант - ходил после лекций обедать домой.