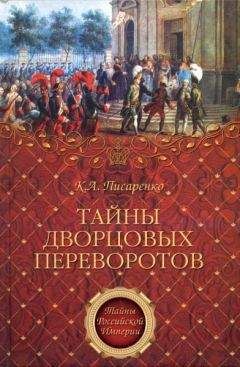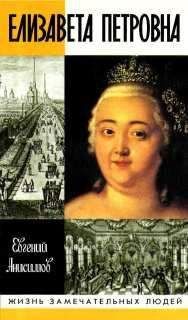Евгений Анисимов - Россия в середине XVIII в.: Борьба за наследие Петра.
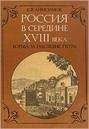
Помощь проекту
Россия в середине XVIII в.: Борьба за наследие Петра. читать книгу онлайн
Это наблюдение говорит о том, что к концу царствования Анны Ивановны Бирон практически начал обновление гвардии. В первую (!), самую привилегированную роту Преображенского полка были зачислены даже не солдаты из армейских полков, а рекруты, в основном крестьяне. Не приходится сомневаться, что сочетание петровских ветеранов и ведомой ими необстрелянной деревенской молодежи (всего и тех и других было 221 человек, или 71,7 % общего числа лейб-кампанцев) и стало горючим материалом переворота 25 ноября 1741 г. Примечательно, что сведения о грамотности в именных списках лейб-кампанцев показывают, что крестьяне, попавшие в гвардию в 1737–1741 гг., были почти сплошь неграмотные: из 73 человек читать и писать умели лишь четверо. У остальных лейб-кампанцев положение было много лучше — грамотными были 30 % общего числа учтенных.
Следует отметить, что и сама Елизавета много сделала для роста своей популярности в гвардейской среде. Будучи удалена от двора Анны Ивановны, Елизавета водила компанию с гвардейцами, казармы которых находились неподалеку от ее Летнего дворца, привлекая их красотой, обходительностью, веселостью, истинно петровской простотой обращения. В ее происхождении, поведении, внешности было много черт, симпатичных для солдат и столичных низов, и во мнении довольно широких слоев петербургского населения она заметно выигрывала в сравнении с грубой, надменной и полностью подчинившейся Бирону Анной Ивановной. Дело Лопатинского содержит на этот счет любопытное свидетельство. Иеромонах Кучин говорил своему товарищу Зворыкину: «…как от кого не послышишь, государыня цесаревна любезна, и многие очень сожалеют (о ее нереализованных правах на престол. — Е. А.), как-де и ты от многих слышал». Зворыкин это подтвердил и сказал: «И мне-де, батюшка, жаль государыни цесаревны, как мимо нея эту государыню (Анну Ивановну. — Е. А.) избрали, так жаль было, что едва не плакал… очень мне она кажется взором любезна, какова-то будет эта государыня?» Самгин, присутствовавший при разговоре, в ответ сказал об Анне Ивановне: «Эта государыня груба лицем»45.
Анализ именных списков лейб-кампании не должен, однако, вводить нас в заблуждение относительно социального состава гвардии в целом; она, конечно, состояла в основном из дворян, в том числе и знатных. Но знать осталась безучастной к заговору и перевороту, и Елизавету поддерживали гвардейские низы, потому что они были ближе к широким слоям столичного населения, где патриотические настроения преобладали. Верхи же гвардии — «золотая молодежь» того времени — были теснее связаны с дворянством и разделяли его несколько пренебрежительное отношение к Елизавете. Сословный дух принадлежности к дворянству был сильнее корпоративного духа гвардии, что и неудивительно, ибо служба в гвардии рассматривалась как одна из почетно-принудительных обязанностей господствующего класса. Этим и объясняется незначительное число дворян в лейб-кампании, отсутствие в ней представителей знатных фамилий и вообще отсутствие среди заговорщиков офицеров, которые могли бы быть организаторами переворота.
Именно то обстоятельство, что среди заговорщиков не было людей, способных возглавить переворот, предопределило личное участие самой Елизаветы в захвате власти — черта уникальная в истории дворцовых переворотов в России XVIII в.
Не менее примечательной была и другая черта, присущая перевороту 25 ноября 1741 г. Речь идет о причастности к заговору в пользу Елизаветы иностранных дипломатов, в первую очередь посланника Франции Иоахима-Жана Тротти маркиза де ла Шетарди и посланника Швеции Эрика Матиаса Нолькена. Дипломаты представляли при русском дворе страны-союзницы и преследовали общую цель — добиться ослабления России.
Францию, восстановившую в 1739 г. отношения с Россией, беспокоил рост ее могущества после реформ Петра, ибо уже с середины 20-х годов Россия неизменно придерживалась политики союза с Австрией, усиливая тем самым извечного соперника Франции на континенте. Ослабить Австрию можно было путем разрыва русско-австрийского союза. Эта цель стояла перед французской дипломатией и конкретно перед Шетарди.
Ослабления России хотела и Швеция, пережившая в результате Северной войны (1700–1721 гг.) глубокий кризис и к концу 30-х годов отчасти восстановившая свои силы. В новом, послеништадтском поколении шведских дворян возросли настроения реванша и число сторонников ревизии вооруженным путем условий Ништадтского мира. Франция поддерживала Швецию в ее притязаниях. Особое оживление шведов вызвало сообщение о болезни и смерти Анны Ивановны.
Именно с момента смерти Анны начинается интрига Швеции, основанная на использовании в своих целях предполагаемой борьбы за власть при русском дворе. Узнав о болезни царицы, министр иностранных дел Швеции К. Гилленборг поставил перед Нолькеном задачу вступить в контакт с теми группировками русской правительствующей верхушки, которые в ответ на шведскую помощь в захвате власти будут готовы пойти на территориальные уступки Швеции. Нолькена ориентировали на одну из трех группировок — Бирона, Анны Леопольдовны и Елизаветы. Уже в начале ноября 1740 г. обстановка прояснилась — Бирон был свергнут. Единственной «партией» в оппозиции правительству была группировка Елизаветы. На нее и обратил свое внимание Нолькен. Стокгольм предписал Нолькену сотрудничать в порученном деле с французским послом Шетарди.
Сообщением Шетарди от 18 ноября 1740 г. министру иностранных дел Франции Ж.-Ж. Амело о первых беседах с Нолькеном начинается интенсивная переписка французских дипломатов по делу Елизаветы. До начала 1741 г. Версаль скептически относился к Елизавете и ее шансам вступить на русский престол. Французское правительство считало, что заговор с участием Елизаветы обречен на провал и если французы будут замешаны в нем, то это может привести к резкому ухудшению и без того довольно прохладных русско-французских отношений и отдалить перспективу желаемого Версалем разрыва русско-австрийского союза. Шетарди признавал популярность Елизаветы, но считал, что «страсть к удовольствиям ослабила у этой принцессы честолюбивые стремления; она находится в состоянии бессилия, из которого не выйдет, если не послушается добрых советов; советчиков же у нее нет никаких, она окружена лицами, неспособными давать ей советы. Отсюда необходимо происходит уныние, которое вселяет в нее робость даже относительно самых простых действий»46.
Столь уничижительный вывод определял поначалу характер бесед Шетарди с Нолькеном о заговоре Елизаветы, причем французский посол отговаривал своего коллегу от рискованной затеи участия в нем. Нолькен соглашался с доводами Шетарди, но действовал по собственному плану. В начале декабря 1740 г. он сказал Шетарди, что «партия принцессы Елизаветы не так ничтожна», как думает Шетарди, и цесаревна через посредников начала переговоры с некоторыми крупными государственными деятелями и генералами, не говоря уже о том, что гвардия «готова к действию». Из всего сказанного шведским послом Шетарди сделал верный вывод: Нолькен вступил в непосредственные переговоры с Елизаветой.
Переговоры от имени Елизаветы с большими предосторожностями вел личный врач цесаревны Иоганн Герман Лесток и, возможно, камер-юнкер М. И. Воронцов. В конце 1740 — начале 1741 г. Елизавета встретилась с Шетарди, и он, убедившись в серьезности ее намерений, обратился в Версаль за разрешением содействовать зревшему заговору.
Отношение Франции к ситуации, сложившейся в России в начале 40-х годов XVIII в., хорошо отражено в дипломатической переписке. Содействуя заговору Елизаветы, французское правительство намеревалось в случае успеха переворота решить несколько важнейших внешнеполитических задач. Во-первых, версальские политики надеялись, что, придя к власти, Елизавета откажется от внешнеполитического курса проавстрийского правительства Анны Леопольдовны. Во-вторых, расчеты французской дипломатии строились на том, что, придя к власти, Елизавета откажется от петровских принципов внутренней политики. Иностранные наблюдатели считали «партию» Елизаветы крайне консервативной, отрицательно относящейся не только к немецким временщикам, но и вообще к западному влиянию, усилившемуся после петровских реформ. Шетарди писал Амело: «…для службы короля будет важно оказать содействие вступлению на престол Елизаветы и тем привести Россию по отношению к иностранным государствам в прежнее ее положение…» Если такой глобальный план осуществить не удастся, то Франция, полагал Шетарди, по крайней мере сможет «разделить благодарность, какую стяжает Швеция, поддерживая интересы Елизаветы»47.
Переписка Шетарди с Амело дает возможность уловить существенную разницу в подходе каждого из дипломатов к заговору Елизаветы. Посол с головой окунулся в пьянящую романтику заговора с переодеваниями, ночными визитами, тайниками для записок, многозначительными улыбками и разговорами на придворных балах. Мать Екатерины II отметила в своих письмах-мемуарах, что «свидания происходили в темные ночи, во время гроз, ливней, снежных метелей, в местах, куда кидали падаль»48. Немудрено, что перспективы заговора, идейным руководителем и крестным отцом которого Шетарди считал себя, казались ему весьма оптимистичными.