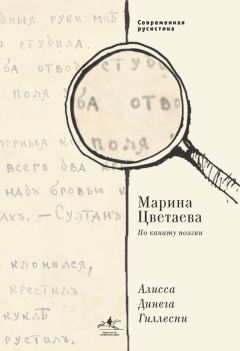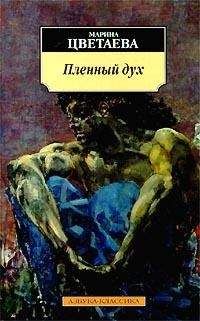Марина Цветаева. По канату поэзии - Гиллеспи Алиса Динега
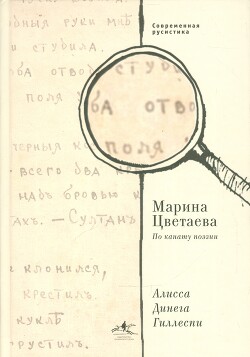
Помощь проекту
Марина Цветаева. По канату поэзии читать книгу онлайн
Вернуться
310
Эти строки неявно отсылают к «Новогоднему» с его звучной интерпретацией смерти Рильке как наступления «нового года». В эссе «Поэт о критике» Цветаева описывает процесс поэтического творчества как напряженное вслушивание всем своим существом: «Указующее – слуховая дорога к стиху: слышу напев, слов не слышу. Слов ищу. <…> Верно услышать – вот моя забота. У меня нет другой» (5: 285). Заметим, что у Осипа Мандельштама было аналогичное представление о поэтическом творчестве; вот как его описывает в своих воспоминаниях Надежда Мандельштам: «Весь процесс сочинения состоит в напряженном улавливании и проявлении уже существующего и неизвестно откуда транслирующегося гармонического и смыслового единства, постепенно воплощающегося в слова» (Мандельштам Н. Я. Воспоминания. [Кн. 1]. М.: Согласие, 1999. С. 84).
Вернуться
311
Ср. высказывания Цветаевой в письме к Анне Тесковой: «Убеждена <…>, что когда буду умирать – <Рильке> за мной придет. Переведет на тот свет, как я сейчас перевожу его (за руку) на русский язык. Только тáк понимаю – перевод» (6: 375).
Вернуться
312
Здесь, как и в других местах, Цветаева, возможно, ассоциирует идею «чистоты» с самим Рильке, поскольку его имя, Райнер, можно парономастически связать с немецким прилагательным rein (чистый). Этот мотив повторяется в поэме несколькими строками далее: «Чистым слухом / Или чистым звуком / Движемся?»
Вернуться
313
Briefwechsel: 230; Письма 1926 года: 190.
Вернуться
314
С обратной силой тяжести из «Поэмы Воздуха» соотносится описание Цветаевой неба как своей будущей могилы в ряде стихотворений, ср.: «Чердачный дворец мой, дворцовый чердак!..» (1: 488–489), «Высокó мое оконце!..» (1: 494), «Прямо в эфир…» (2: 50), «Без самовластия…» (2: 67), «На назначенное свиданье…» (2: 202). Иосиф Бродский, как кажется, воспринял от Цветаевой это представление об обратной силе гравитации, что вполне естественно, поскольку он, как и Цветаева, говоря о поэтическом вдохновении, часто прибегает к метафорам полета (птиц, мифа об Икаре, ангелов, астронавтов и проч.). Примеры можно найти в стихотворениях Бродского «Большая элегия Джону Донну» и «Осенний крик ястреба». Ср. также: Dinega A. Poet as Aeronaut: Brodsky’s Dialogue with Tsvetaeva on Aging and the Poetic Death-Wish (доклад на Национальной конференции AATSEEL. Чикаго, 1999).
Вернуться
315
Мандельштам О. Э. Собрание соч.: В 4 т. / Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. М.: Терра – Terra, 1991. Т. 2. С. 323. Цветаева сблизилась с Мандельштамом зимой 1916 года. В более общем смысле об отношении «Поэмы Воздуха» к акмеизму см.: Smith A. Surpassing Acmeism? – The Lost Key to Cvetaeva’s «Poem of the Air» // Russian Literature. 1999 (February). Vol. 45. Issue 2. P. 209–222.
Вернуться
316
Интересно, что здесь Цветаева переделывает собственный поэтический образ, намеченный в поэме «На Красном Коне»: там крылья были у нее за плечами, а у всадника/музы, напротив, крылья над бровью.
Вернуться
317
То, что пишет о Маяковском Эльза Триоле, вполне может быть отнесено и к Цветаевой: «<Маяковский нес в себе> все человеческое ничтожество <…>. <Он> требовал любви, счастья жизни, невозможного, бессмертного, безграничного <…> у него было в превосходной степени то, что французы называют le sens d’absolu, потребность абсолютного, максимального чувства и в дружбе, и в любви» (цит. по: Erlich V. Modernism and Revolution: Russian Literature in Transition. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994. P. 263). В поэме Маяковского «Флейта-позвоночник» есть пассаж, который кажется написанным Цветаевой: «Я душу над пропастью натянул канатом, / жонглируя словами, закачался над ней» (Маяковский В. Собр. соч.: В 12 т. М.: Правда, 1978. Т. 1. С. 256). Гиперболизированная пламенная образность начальной сцены поэмы Цветаевой «На Красном Коне» очевидным образом связана с поэмой Маяковского «Облако в штанах». Сам Маяковский критически относился к творчеству Цветаевой (о чем ей, возможно, не было известно), несмотря на откровенное с ее стороны преклонение. Творчеству Маяковского отчасти посвящено эссе Цветаевой «Эпос и лирика современной России» (5: 375–396). См. также: Саакаянц А. Владимир Маяковский и Марина Цветаева // Soviet Studies in Literature. 1983 (Fall). Vol. 19. № 4. P. 3–50; В мире Маяковского: Сб. ст. М.: Сов. писатель, 1984. Кн. 2. С. 157–194.
Вернуться
318
Об этом эпизоде см.: Feiler L. Marina Tsvetaeva: The Double Beat of Heaven and Hell. Durham, N. C.: Duke University Press, 1994. P. 191–192.
Вернуться
319
Цветаева использовала процитированную строку в качестве эпиграфа к четвертому стихотворению своего цикла «Маяковскому».
Вернуться
320
О реакции Цветаевой на самоубийство Маяковского см.: Boym S. Death in Quotation Marks: Cultural Myths of the Modern Poet. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991. P. 221–225; Hasty O. P. Reading Suicide: Tsvetaeva on Esenin and Maiakovskii // Slavic Review. 1991 (Winter). Vol. 50. № 4. P. 836–846.
Вернуться
321
О значении Пушкина для творчества Цветаевой см.: Кресикова И. Цветаева и Пушкин: Попытка проникновения. Эссе и этюды. Москва: РИФ «РОЙ», 2001; Смит А. Песнь пересмешника: Пушкин в творчестве Марины Цветаевой. Москва: Дом-музей Марины Цветаевой, 1998; Scotto P. J. The Image of Puškin in the Works of Marina Cvetaeva. Ph. D. Diss., University of California, Berkeley, 1987; Sandler S. Embodied Words: Gender in Cvetaeva’s Reading of Puškin // Slavic and East European Journal. 1990. Vol. 34. № 2. P. 139–157.
Вернуться
322
Саймон Карлинский дает тонкую картину сложных отношений Цветаевой с русской эмигрантской культурой, от которой в 1930-е годы она испытывала все возраставшее отчуждение (Karlinsky S. Marina Tsvetaeva: The Woman, Her World, and Her Poetry. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1985. P. 176–178). См. об этом также в книге Виктории Швейцер «Быт и бытие Марины Цветаевой» (М.: СП Интерпринт, 1992. С. 405–413).
Вернуться
323
Любопытно, что Маяковский и Пушкин – два крупных поэта, с которыми Цветаева не вступает в отношения полу-соперничества полу-поклонения, как с другими поэтами-мужчинами. Причина, вероятно, в том, что они стоят от нее на слишком большом расстоянии – политическом и идеологическом в случае с Маяковским, историческом – в случае с Пушкиным.
Вернуться
324
Поздние мрачные стихотворения Цветаевой о старении разительно отличаются от ее более ранних стихотворений на эту тему, где старость рассматривается скорее как награда, символизирующая победу мудрости над телесностью. Примеры ранних стихотворений о старости – «Золото моих волос…» (2:149) и «Это пеплы сокровищ…» (2: 153–154), а также цикл «Сивилла» (2: 136–138), – последние два вошли в книгу «После России».
Вернуться
325
Примеры таких ретроспективных поэм – «Красный бычок» (1928), «Перекоп» (1929) и «Поэма о царской семье» (1929–1936). См.: Smith M. S. Marina Tsvetaeva’s Perekop: Recuperation of the Russian Bardic Tradition // Oxford Slavonic Papers. 1999. Vol. 32. P. 97–126. Смит считает, что в поэме «Перекоп» Цветаева обращается к гораздо более ранней русской истории, чем русская революция, составляющая очевидную тему поэмы, а именно, к древнерусской поэтической традиции «Слова о Полку Игореве».
Вернуться
326
Незадолго до того, как завязалась дружба Цветаевой с восемнадцатилетним Гронским, его мать, талантливая скульпторша, в сентябре 1928 года оставила семью, уйдя к любовнику. Цветаева высказывает глубокую симпатию к матери Гронского, считая, что ее беззаконное желание – это «жажда той себя, не мира идей, хаоса, рук, губ. Жажда себя, тайной. Себя, последней. Себя, небывалой» (7: 204). С точки зрения Цветаевой, мать Гронского оставляет аскетический мир искусства ради женской, чувственной самореализации – чего самой Цветаевой не удалось сделать. Постепенно между Цветаевой и Гронским нарастало отчуждение; возможно, его родители были против их дружбы и способствовали ее прекращению.