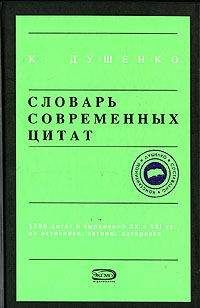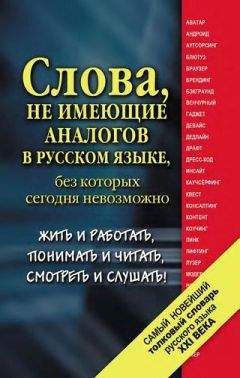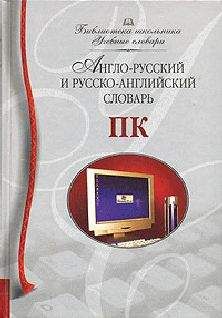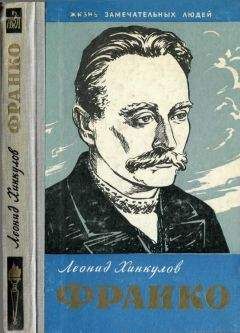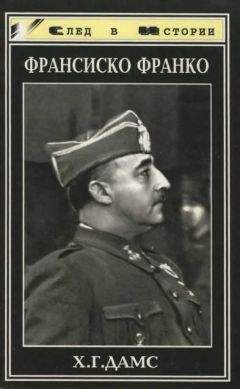Буржуа: между историей и литературой - Франко Моретти
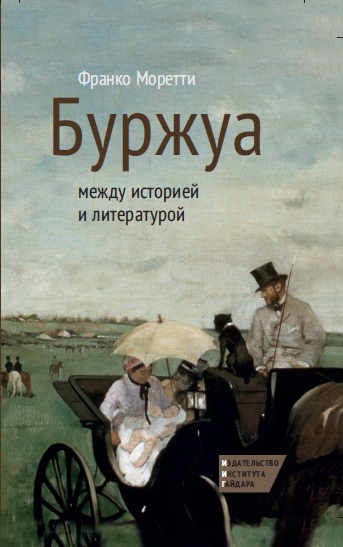
Помощь проекту
Буржуа: между историей и литературой читать книгу онлайн
Франко Моретти
Буржуа: между историей и литературой
Посвящается Перри Андерсону и Паоло Флоресу д’Аркаису
First published by Verso 2013
© Издательство Института Гайдара, 2014
* * *
Источники
Несколько слов о некоторых источниках, часто используемых в данной книге. Корпус Google Books – это собрание нескольких миллионов книг, которое позволяет проводить очень простые поиски. База данных Чэдвик-Хили (Chadwyck-Healey database) по девятнадцатому веку объединяет 250 крайне тщательно отобранных британских и ирландских романов, написанных в период с 1782 по 1903 год. Корпус «Литературной лаборатории» включает около 3500 британских, ирландских и американских романов девятнадцатого века.
Я также ссылаюсь на словари, указывая их в скобках, без дальнейших уточнений: OED – это «Оксфордский словарь английского языка», Robert и Littré – французские словари, Grimm – немецкий, а Battaglia – итальянский.
Введение: понятия и противоречия
1. «Я – представитель буржуазного класса»
Буржуа… Еще совсем недавно это понятие казалось незаменимым для социального анализа, теперь вы можете прожить годы и ни разу его не услышать. Капитализм силен как никогда, но люди, которые были его олицетворением, по-видимому, исчезли. «Я – представитель буржуазного класса, таковым себя ощущаю и воспитан на его воззрениях и идеалах», – писал Макс Вебер в 1895 году[1]. Кто сегодня может повторить эти слова? Буржуазные «воззрения и идеалы» – что это?
Эта изменившаяся атмосфера нашла отражение в академических работах. Зиммель и Вебер, Зомбарт и Шумпетер, все они рассматривали капитализм и буржуазию – экономику и антропологию – как две стороны одной медали. «Я не знаю ни одной серьезной интерпретации истории нашего современного мира, – писал Иммануил Валлерстайн четверть века назад, – в которой отсутствовало бы понятие „буржуазия“… И это неслучайно. Трудно рассказывать историю, в которой бы отсутствовал основной протагонист»[2]. Однако сегодня даже те историки, которые больше других подчеркивают роль «мнений и идеалов» в зарождении капитализма – Эллен Мейксинс Вуд, де Фрис, Эпплби, Мокир, – фигурой буржуа интересуются мало или не интересуются ею вовсе. «В Англии был капитализм, – пишет Мейксинс Вуд в «Первозданной культуре капитализма», – но его породила не буржуазия. Во Франции была (более или менее) торжествующая буржуазия, но ее революционный проект не имел отношения к капитализму». Или, наконец: «Необязательно отождествлять буржуа… с капиталистом»[3].
Все правильно, отождествлять необязательно, но дело не этом. В «Протестантской этике и духе капитализма» Вебер писал, что «возникновение западной буржуазии во всем ее своеобразии» – это процесс, который «находится в тесной связи с возникновением капиталистической организации труда, но не может считаться полностью идентичным ему»[4]. В тесной связи, но не может считаться полностью идентичным: вот идея, лежащая в основе «Буржуа» – взглянуть на буржуа и на его культуру (буржуа в истории, по большей части, определенно был мужского рода) как на часть структуры власти, с которой они, однако, не совпадают целиком. Но говорить о буржуа в единственном числе само по себе сомнительно. «Крупная буржуазия не может официально отделиться от „новых пришельцев“, – писал Хобсбаум в «Веке империи», – поскольку ее структуры нуждались в притоке свежих сил и должны были оставаться открытыми, так как от этого зависело ее существование»[5]. Эта проницаемость, добавляет Перри Андерсон, отличает буржуазию от знати до нее и от рабочего класса после нее. Ибо несмотря на все важные отличия внутри каждого из этих противостоящих друг другу классов, в структурном отношении они гораздо однороднее: аристократию обычно определяет юридический статус в сочетании с гражданскими титулами и юридическими привилегиями, тогда как рабочий класс характеризуется главным образом занятием ручным трудом. Буржуазия как социальная группа не обладает подобным внутренним единством[6].
Проницаемые границы и слабое внутреннее единство: не обесценивают ли эти черты саму идею буржуазии как класса? По мнению величайшего из живущих ее историков, Юргена Коки, вовсе нет, если мы будем различать то, что мы могли бы назвать ядром этого понятия, и его внешнюю периферию. Последняя и в самом деле очень сильно варьировалась как в социальном, так и в историческом плане: вплоть до XVIII века она состояла в основном из «самозанятых мелких предпринимателей (ремесленников, розничных торговцев, хозяев постоялых дворов и мелких собственников)» ранней городской Европы; спустя сто лет – из совершенно иного населения, включавшего «средних и мелких клерков государственных служащих»[7]. Однако в течение XIX века по всей Западной Европе появляется синкретическая фигура «имущей образованной буржуазии», что обеспечивает центр притяжения для класса в целом и усиливает в буржуазии черты возможного нового правящего класса: это схождение нашло выражение в немецкой концептуальной паре Besitzs- и Bildungsbürgertum – имущая буржуазия и буржуазия культуры – или, в более прозаичном ключе, в том, что британская система налогообложения бесстрастно подводит прибыли (от капитала) и гонорары (за профессиональные услуги) «под одну статью»[8].
Встреча собственности и культуры: идеальный тип Коки – будет и моим идеальным типом, но с одним важным отличием. Как историка литературы, меня будут интересовать не реальные отношения между отдельными социальными группами – банкирами и высокопоставленными государственными служащими, промышленниками и врачами и так далее, – а скорее, то, насколько культурные формы «подходят» для новой реальности классов; то, например, как такое слово, как «комфорт», намечает контуры легитимного буржуазного потребления; или как темп повествования приспосабливается к новому размеренному существованию. Буржуа через призму литературы – вот предмет книги «Буржуа».
2. Диссонансы
Буржуазная культура. Единая это культура или нет? «Многоцветный стяг… может послужить [символом] для класса, который был у меня под микроскопом», – пишет Питер Гэй, завершая свои пять томов «Буржуазного опыта»[9]. «Экономический эгоизм, религиозная повестка, интеллектуальные убеждения, социальная конкуренция, надлежащее место женщины стали политическими вопросами, из-за которых одни буржуа боролись с другими», – добавляет он в более поздней работе; различия выразились столь ярко, «что есть соблазн усомниться в том, что буржуазия вообще могла поддаваться определению как сущность»[10]. Для Гэя все эти «поразительные различия»[11] – результат ускорения социальных изменений в XIX веке и потому типичны для викторианского периода истории буржуазии[12]. Но на антиномии буржуазной культуры можно взглянуть и из гораздо более широкой перспективы. В своем эссе о капелле Сассетти в церкви Санта-Тринита, отталкиваясь от портрета Лоренцо, нарисованного Макиавелли в «Истории Флоренции» («если сравнить его темную и светлую стороны [la