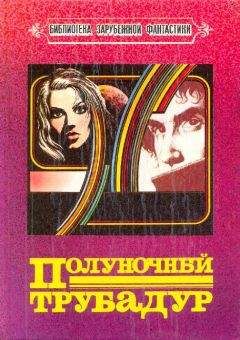Женевьева Брюнель-Лобришон - Повседневная жизнь во времена трубадуров XII—XIII веков
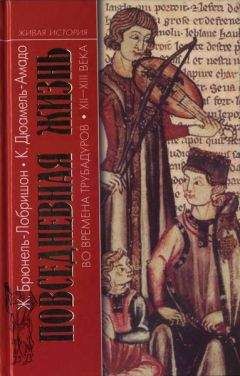
Помощь проекту
Повседневная жизнь во времена трубадуров XII—XIII веков читать книгу онлайн
«С Творцом, создавшим тьму и свет, / Любви не позабывшим дальней, /Я в сердце заключил завет, / Чтоб дал свиданье с Дамой дальней, / Чтоб стала комната и сад / Роскошней каменных палат / Того, кто ныне на престоле», — поет Джауфре Рюдель[35].
Арнаут Даниэль мечтает насладиться радостью любви (joi), ожидающей его «в саду или же в светелке», где он будет принадлежать своей даме, будет находиться так близко к ней, как плоть прилегает к ногтю! Таков смысл его знаменитой «секстины» (sestina*); создавая изощренную по форме композицию стиха, поэт в полной мере испытал муки творчества, источником которых он сам называет любовь к даме, заставляющей его испытывать страдания гораздо более тяжкие, чем муки пахаря, возделывающего иссушенную ветрами почву.
Трубадур Гильем де Сант Лейдьер, могущественный кастелян из Веле, творивший в последней четверти XII века, описывает свою грезу не столько в эротической, сколько в аллегорической форме: ему видится сад любви. Деревья и цветы в том саду олицетворяют дам, самая прекрасная из которых — «чудесный белый цветок, сияющий со всех сторон, отчего он и краше всех»[36]; этот единственный цветок, невиданный и недоступный, и является предметом желаний трубадура[37].
Как осуществить мечту, приблизиться к даме, «укрывшись за занавесом тонкой работы»[38], как это делает Бернарт Марти, а затем проскользнуть «руками к ней под плащ»[39], как того желает влюбленный Гильем IX? Каждый находит способ утолить свое желание и даже — когда речь идет о герцоге Аквитанском — удовлетворить сразу двух пылких женщин[40].
Женщина среди дикой природыНесмотря на раскорчевку делянок и использование леса и луга для выпаса скота, дикая природа составляет неотъемлемую часть повседневного пейзажа средневекового человека и является для трубадура источником вдохновения, где действуют законы куртуазной авантюры.
«Пастурель» (pastorela), жанр любовного спора между пастушкой, стерегущей свое стадо, и рыцарем-поэтом, пытающимся соблазнить ее, происходит в обстановке дикой природы, где женщины — в основном юные простодушные крестьянки — принадлежат к низшему сословию, а следовательно, находятся за пределами куртуазного мира. Этот песенный жанр имеет народные истоки и, в отличие от трубадуров, обращавшихся к нему достаточно редко, снискал огромную популярность у труверов (лирических поэтов Северной Франции). Самая старая из сохранившихся пастурелей, сочиненных трубадурами, принадлежит перу Маркабрюна:
Как-то раз на той неделе / Брел я пастбищем без цели, / И глаза мои узрели / Вдруг пастушку, дочь мужлана: / На ногах чулки белели, / Шарф и вязанка на теле, / Плащ и шуба из барана[41].
Костюм крестьянки описан с большой точностью: время года явно не слишком теплое, и ветер продувает девушку, пытающуюся спрятаться от него за невысокой изгородью, единственным убежищем среди широкого луга, где она пасет своих овечек. Итак, декорация готова, рыцарь может предлагать девушке свое общество, что он и делает со все большей настойчивостью. Девушка остроумно отвечает на красноречивые предложения говорливого сеньора, желающего приручить ее «сердце, загадочное и дикое». Решительно и вместе с тем чрезвычайно изящно, что удивляет, ибо речь идет о простушке, она ставит на место «безумца, впавшего в безумие», напоминая ему пословицу, правила, заведенные в мире, к которому они оба принадлежат, и которые следует соблюдать:
«Дон, но следствие с причиной / Связано, дурь — с дурачиной, / И с мужланом — дочь мужлана»[42].
Несмотря на окружающую дикую природу и уединенную местность, куртуазная ситуация оправдывает грубое желание рыцаря, поэта, жаждущего любви. Но пастушка ведет себя, как «куртуазная мужланка», и искусство любовного обольщения входит в определенные рамки, выработанные правилам fin’amor.
Декорации сельского пейзажа помогают поэту создать картину всеобщего примирения: традиционные жалобы на обманутую любовь в результате завершаются ко всеобщему удовольствию — утолением желания и сеньора, и крестьянки. Ги д’Юсселю даже удается найти способ «превратить неудовольствие, кое познали оба, в радость и удовольствие». Он доволен, ибо прибыл «к ждущим его воротам», в то время как она весела от того, что «исцелилась от своей тоски»[43]. В этом случае трубадур сумел оставить в неприкосновенности и надлежащую мораль, и риторику, а главное, правила куртуазной любви! Однако совершенно ясно, что каноны построения пастурели не позволяют этому литературному жанру развиться в «великую куртуазную песню» XII века. Только на закате лирики трубадуров жанру этому суждено претерпеть существенное обновление. Уроженец Нарбонна, Гираут Рикьер, взяв за основу шесть пастурелей, даже попытается создать небольшой роман, главным персонажем которого станет пастушка, в чьей жизни последовательно будут происходить различные перемены; образ пастушки станет эволюционировать не только во времени, но и в пространстве Лангедока, однако речи ее, обращенные к поэту, всегда будут отличаться размеренностью и скромностью, как если бы они были заимствованы у «куртуазной мужланки» былых времен[44].
Трубадурки (trobairitz*).Термина, обозначающего женщин-поэтов, писавших свои стихи на окситанском языке, нет ни в их собственных песнях, ни в их жизнеописаниях (vidas) и комментариях к ним (razos). Впервые слово «трубадурка» (trobairitz) появляется в 4577-м стихе анонимного романа XIII века «Фламенка»[45]. Трубадуркой называют Маргариту, одну из двух служанок героини, когда та «находит» слово, состоящее из двух слогов, с помощью которого можно продолжить диалог, начавшийся в церкви между ее госпожой и прекрасным клириком. Вскоре Фламенка впадет в «смертный грех», о котором говорится в стихотворении Гильема IX, где трубадур утверждает, что любовь дамы предназначена рыцарям, а если дама берет в любовники монаха или клирика, то она заслуживает костра[46]:
Дама не впадает в смертный грех, / Коли любит доблестного рыцаря; / Но если она любит монаха или клирика, / Она поступает дурно: / По закону надо бы сжечь такую даму / На раскаленных угольях.
Однако романическая интрига «Фламенки» завязана в XIII веке, и к тому же речь идет об истинном рыцаре, всего лишь переодевшемся клириком.
Ревнивец-муж держит взаперти Фламенку и двух ее прислужниц; женщинам дозволяется посещать только церковь и бани, да и то под надзором бдительного супруга. Однако благодаря удачной выдумке рыцарю Гильему удается поведать даме о своей любви. Согласно замыслу на время он становится клириком; теперь каждый раз в конце мессы он подходит к ней «с миром», и пока она целует псалтырь, он произносит слово или же внимает ее ответу. Этот растянувшийся на много недель диалог, начавшийся со вздоха «Увы!», вырвавшегося из груди Гильема, завершается словами Фламенки: «Мне нравится», что означает ее согласие встретиться с возлюбленным в банях, куда к этому времени он проложил подземный ход из своего дома.
Из жизнеописаний (vidas) трубадурок (trobairitz) следует, что все женщины-поэты были знатного происхождения и принадлежали к высшей аристократии юга. Анонимные авторы «Жизнеописаний», составленных в XIII и XIV веках, рассказали о жизни едва ли четвертой части трубадуров (девяносто четыре жизнеописания, тогда как имен трубадуров известно более четырех сотен), но в то же время сохранили нам биографии более половины трубадурок (восьми из шестнадцати или двадцати-двадцати одной)! Впрочем, вряд ли стоит принимать во внимание пропорции, когда общее число столь различно. Биографы женщин-трубадурок подчеркивают, что все восемь дам отличались высоким уровнем культуры.
Вот имена этой восьмерки: Альмуэйс де Кастельноу, Изольда де Шапьо, Азалаида де Поркайраргес, Кастеллоза, графиня де Диа, Ломбарда (сохранились два «куплета» (coblas) тенсоны, которыми она обменялась с неким Бернартом Арнаутом), Мария Вентадорнская (сохранилась единственная песня-тенсона, написанная совместно с Ги д’Юсселем) и Тибор. Об этих поэтессах рассказывают vidas или razos, при этом о трех из них говорится, что они умели только «находить слова» (trobar), то есть сочинять лирические стихи. Следовательно, для обозначения их искусства используется тот же термин, что и для искусства трубадуров-мужчин. Тексты, содержащие биографические сведения об этих женщинах, имеются только в пяти средневековых рукописных песенниках, выполненных в Италии; в сущности, это единственные источники, откуда мы можем почерпнуть наши знания о них. Всего же сохранилось около четырех десятков рукописных песенных сборников с текстами на окситанском языке.