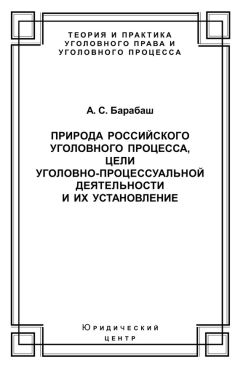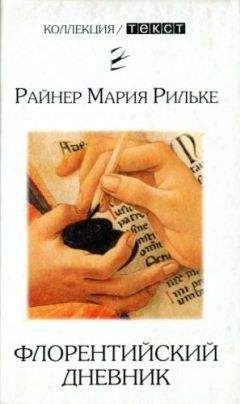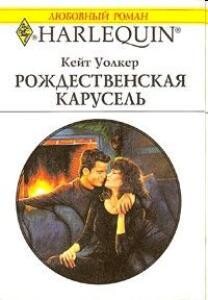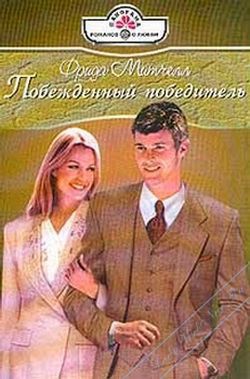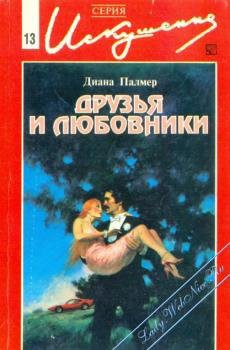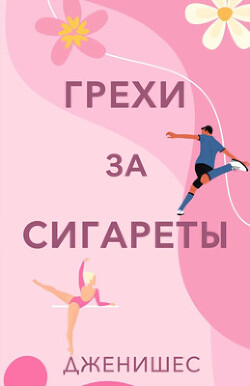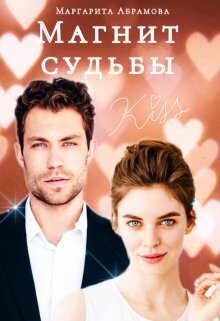Поль де Ман - Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста

Помощь проекту
Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста читать книгу онлайн
В то время, когда он писал «Часослов», Рильке разрабатывал и совсем другой тип стихотворения, представленный в «Книге образов», которая сама по себе была переходным произведением, шагом на пути к мастерским «Новым стихотворениям». Развитие, осуществленное в этих текстах, имело решающее значение для судеб всего его зрелого творчества. Его можно описать, прочитав одно из характерных стихотворений этого периода. Вполне произвольно в качестве типичного примера избрано стихотворение «Am Rande der Nacht» («На грани ночи»):
Am Rande der Nacht
Meine Stube und diese Weite,
wach uber nachtendem Land,—
ist Eines. Ich bin eine Saite,
uber rauschende breite
Resonanzen gespannt.
Die Dinge sind Geigenleiber,
von murrendem Dunkel voll;
drin traumt das Weinen der Weiber,
drin ruhrt sich im Schlafe der Groll
ganzer Geschlechter... Ich soil
silbern erzittern: dann wird
Alles unter mir leben,
und was in den Dingen irrt,
wird nach dem Lichte streben,
das von meinem tanzenden Tone,
um welchen der Himmel wellt,
durch schmale, schmachtende Spalten
in die alten
Abgrunde ohne
Ende fallt...
[1:156][31]
Не в «мрачную сеть» псевдодиалектики псевдосубъектов, но в самый центр близкого сердцу поэтического ландшафта попадаем мы в этом стихотворении. Прямо с начала оно заявляет о том, что пытается назвать по имени единство, дополнительность полярности внутри/вовне: уединение внутри «комнаты» (вводящее субъекта как владельца «моей» комнаты) и бесконечную ширь ночи вовне. Категорическое утверждение предписывает им стать одним так, как если бы это единство было внезапным откровением одного мгновения, особым согласием «я» поэта и окружающего мира. Но поэт не остается внутри этого застывшего мгновения согласия. Изначальная единственность подвергается преображению, предвозвещенному в строках 11 и 12: «Ich soil / silbern erzittern». Это событие вызывает преображение, переживаемое как движение расширения. Теперь утверждается уже не застойное единство внутреннего и внешнего, но метаморфоз гнетущего и сковывающего внутреннего мира в освобождающий внешний мир. Положительную оценку развития подчеркивает восходящее движением тьмы к свету: «...was in den Dingen irrt, / wird nach dem Lichte streben». Рядом с синхронической осью полярности внутри/вовне помещена динамическая ось преображения противоположности внутри/вовне в последовательную полярность типа ночь/день.
Читателю, привыкшему к романтической и постромантической поэзии, этот тип стихотворения ближе всех прочих, как тем, что он утверждает, так и парами антитез, которые он вводит в игру. Он пытается вызвать и выполнить синтез, соединить сознание с его предметами, применив направленный изнутри наружу акт выражения, который исполняет и утверждает это единство. Полярность субъекта и объекта, которая вначале туманна и амбивалентна, ясно обозначается, когда стихотворение открыто противопоставляет своему субъекту уже не беспредельную огромность, описанную в первой строке, но объекты, отдельные вещи, содержащиеся в этом открытом пространстве. Единство, которое вначале утверждалось лишь a priori на самом деле появляется перед нами, когда субъект, называя себя струной скрипки, встречается с объектами и совершенно приспосабливается к ним, а они при помощи метафоры, поистине рилькеанской в своей соблазнительной дерзости, называются «телом» той же самой скрипки, «Geigenleiber». Целостность Одного таким образом состоит в совершенной дополнительности: без звучащей деки скрипки струна не нужна, но достаточно сплести их, чтобы создать «темную и глубокую сеть» звучания и сияния мира. Кажется, все за то, чтобы воспринять это стихотворение как позднюю версию «соответствия» между внутренним и внешним миром. Эта видимость подтверждается также и приспособлением беспредельности неба из первой строки к вещи; в самом деле, именно резонанс его простора («Ich bin eine Saite,/ uber rauschende breite Resonanzen gespannt») преображается в музыкальное тело вещей («Die Dingesind Geigenleiber»). Стихотворение являет собой пример самой классической из всех метафор, рассматриваемой как перенос из внутреннего во внешнее пространство (или наоборот) посредством аналогического представления. Этот перенос в таком случае открывает тота- лизирующую единственность, которая изначально была скрыта, но которая полностью обнаруживается, как только она названа и сохранена в фигуральном языке. Можно остановиться здесь и ограничиться разысканием дальнейших аналогических параллелей (таких как взаимопроникновение тем пространства и музыки при посредстве эротической коннотации, поскольку тело скрипки — это тело женщины) и в особенности выделением совершенного слияния метафорического повествования со звуковым образцом стихотворения. Момент синтеза точно соответствует модуляции ассонансов от краткого звука i (десятикратно повторенного в первых восьми строках) к долгому звуку е (десятикратно повторенному в оставшихся четырех строках). Следовало бы также обратить внимание на тщательный, до деталей, выбор метафорических аналогов в стихотворении Рильке.
Но если позволить себе руководствоваться строгой репрезентационной логикой метафор, ясность изложения которых и в самом деле отличает подобные стихотворения от «Часослова», нужно идти до конца. Ибо единичность в стихотворении Рильке проявляется в замещении, искажающем обычное отношение между темой и фигурой. Образец, который мы только что схематически обрисовали, именно в этой форме в тексте не появляется. Внутренний мир, который должен по определению принадлежать субъекту, помещен среди вещей. Вместо того чтобы быть непрозрачными и полными, вещи полые и содержат в себе, как в коробке, темную массу чувств и историй. Внутренний мир говорящего субъекта не вовлечен в действие; когда бы ни шла речь о пафосе, имеются в виду страдания других: скорбь женщин, гнев исторических поколений. Путем любопытного превращения эта субъективность с самого начала, до фигурального переноса, вложена в объекты и в вещи. Про это субъективное переживание говорится, что оно темно настолько, что само по себе не способно к выражению; оно существует в состоянии заблуждения и слепоты («was in den Dingen int...»), пока субъект, «я» стихотворения, не дарует ему ясность чувственно воспринимаемых сущих, приписав ему атрибут голоса. Обычная структура обращена: внешний мир вещей интериоризирован, и именно субъект допускает их к особой форме внешнего бытия. «Я» стихотворения не жертвует ничем из своего собственного опыта, ощущений, страданий или сознания. Вопреки тому, что может показаться в первый момент, изначальная модель сцены — это не противостоящий природе или объектам независимый субъект, как, например, в стихотворении Бодлера «L! Homme et la mer»[32]. Приспособление субъекта к пространству (струны—к скрипке) на самом деле происходит не вследствие аналогического обмена, но посредством радикального поглощения, подразумевающего настоящую утрату, исчезновение субъекта как субъекта. Он теряет индивидуальность своего собственного голоса, становясь не более и не менее как голосом вещей, словно центр точки зрения перенесен из «я» во внешние вещи. По тому же самому образцу эти внешние вещи утрачивают свою твердость и становятся столь же пустыми и уязвимыми, как мы сами. И все же утрата субъектом независимости, а природным миром— упругости, трактуется так, как если бы речь шла о позитивном событии, о переходе от тьмы к свету. Ошибочно было бы толковать этот свет как ясность самопознания. В логике фигуры нет ничего подобного: свет—это преображение состояния замешательства и неведения (греза, сон, заблуждение) в звуковой вариант этого самого состояния, оставшегося неизменным. Фигура здесь — метафора озвучивания, не осознания. В заглавии «На краю ночи» прочитывается не предчувствие рассвета нового дня, но постоянство неизбежного состояния смешения и рассеяния. Конец стихотворения подтверждает такое прочтение: восходящее светило оборачивается падением в «древние/ глубины без/ конца...» ночи. Тотализация осуществляется посредством возвращения к пустоте и нетождественности, пребывающей в сердцевине вещей. Единство, утвержденное в начале «Am Rande der Nacht»,— негативное единство, лишающее «я» всех иллюзий самопрозрения. Превращаясь в музыкальную струну, «я» навсегда связывает себя с заблуждениями вещей. И все же именно «я» оглашает это заблуждение.
Это обращение фигурального порядка, само по себе представляющее фигуру хиазма, путающую атрибуты внутреннего и внешнего и приводящую к уничтожению сознающего субъекта, изменяет открыто традиционные модусы тематики и риторики на модусы, присущие только творчеству Рильке. Понять это обращение на уровне тем трудно. Концепция объектов как вместилища субъективности, но не субъективности воспринимающего их «я», непостижима, поскольку ее пытаются понять с точки зрения субъекта. Вместо того чтобы постигать риторику стихотворения как инструмент субъекта, объекта или отношения между ними, следовало бы сменить перспективу и увидеть в этих категориях слуг породившего их языка. Метафора скрипки столь совершенно подходит к драматическому действию текста и образ кажется таким безупречным потому, что его внешняя структура (корпус, струна, эфы, производящие и освобождающие звук) заказывает и начинает всю артикулирующую стихотворение игру фигур. Выбор сущего для метафоры продиктован не тем, что оно аналогически соответствует внутреннему опыту субъекта, но тем, что его структура соответствует структуре лингвистической фигуры: скрипка подобнамстафоре, потому что она переводит внутреннее содержание во внешнюю звучащую «вещь». Эфы, отверстия в корпусе (своей формой вполне подходящие для роли алгоритма интегрального исчисления тотализации), точно соответствуют вовне направленному повороту, случающемуся в каждом метафорическом представлении. Музыкальный инструмент представляет не субъективность сознания, но присущий языку потенциал; это — метафора метафоры. То, что оказывается внутренним миром вещей, пустая внутренность корпуса,— это не субстанциальная аналогия между «я» и миром вещей, но формальная и структурная аналогия между этими вещами и фигуральными ресурсами слов. Появление метафоры точь-в-точь совпадает с явным описанием объекта. Ничуть не удивительно, что, когда мы вспоминаем детали метафорического инструмента, или носителя (совершенное соответствие струн корпусу, отверстиям в деке и т. д.), перед нашими глазами появляется метафора, ведь объект был избран именно для этой цели. Соответствие не утверждает скрытое единство, существующее в природе вещей и сущностей; оно больше похоже на цельную упаковку частиц головоломки. Совершенное согласование может иметь место только потому, что целостность установлена заранее и вполне формально.