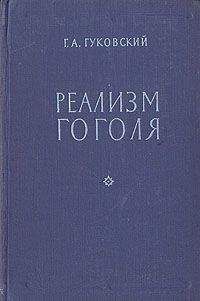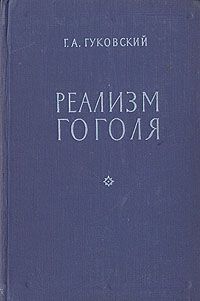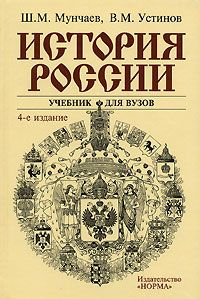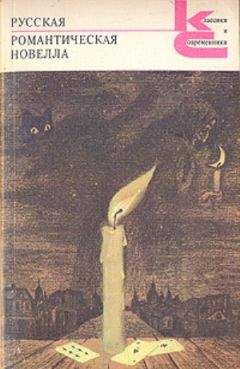Григорий Гуковский - Русская литература XVIII векa

Помощь проекту
Русская литература XVIII векa читать книгу онлайн
Петр заметил Феофана еще в 1706 г., когда тот приветствовал его в Киеве речью-проповедью. В это время талантливый монах делал блестящую научно-педагогичеокую карьеру в Киевской академии. Затем, приехав в Петербург по вызову Петра в 1716 г., Феофан получил высокие церковные назначения и сделался фактическим руководителем всех церковных дел, которые Петр поручил ему, зная, что он не выдаст его в таком сложном деле. Одновременно Феофан помогал царю в ряде общеполитических его начинаний.
Феофан совмещал в себе черты ученого-гуманиста эпохи Возрождения с просветительскими стремлениями европейской мысли его времени. Глубокая и страстная убежденность в правоте дела Петра, ненависть к остаткам средневековой схоластики, к старозаветной косности, энергичная практичность натуры и мировоззрения толкали Феофана к решительному вмешательству в политическую жизнь. Он был беспощадно жесток по отношению к врагам реформы, врагам просвещения, реакционным церковникам, даже к своим личным врагам, в которых он видел политических врагов Петра. Его духовный сан не мешал ему любить не только светские книги, но и земные радости, и искусство, в частности, музыку. Он любил жизнь, ее опасности и победы, борьбу, активность, и потусторонние идеалы церкви его нимало не удовлетворяли. В своей богословской практике (он написал немало работ по богословию) он явственно склонялся к протестантизму и боролся со схоластической традицией как католической, так и старозаветной православной церкви. Недаром «идеологи» реакционной московской церковности обвиняли его в ереси, в кальвинизме, в неверии. Феофан отвергал слепую веру в писания «отцов церкви», считая для себя обязательной только веру в Библию. Один из его противников доносил властям, что Феофан «не верит чудесам святых, печатанных в книгах», и говорит: «мне де книга-критика верить не велит». Понятно, что религиозное мировоззрение этого монаха-рационалиста приводило в ужас церковников, которыми он управлял при Петре, а один испанец, католический монах Рибейра, сомневался вообще в том, что у Феофана были какие бы то ни было религиозные убеждения.
Феофан был одаренным писателем. Он писал и стихи, очень хорошие по тем временам, восходящие к образцам западной поэзии эпохи Возрождения. Но он не мог отдаться своему поэтическому таланту. Не до стихов было этому энергичному сотруднику Петра. В молодости, когда он жил в Киеве и профессорствовал в Киевской духовной академии, он написал руководства по поэтике и по риторике (на латинском языке), в которых боролся против средневековой схоластики, любви к аллегориям, вычурности и манерности и проповедовал здоровую простоту стиля.
Он учил в своем курсе поэтики следовать образцам классической античной литературы: Гомеру, Виргилию, Горацию, Овидию и др. Он отбрасывает в своей риторике (1706) сложную схоластическую классификацию слога различных жанров и принимает более простое деление слога на три вида: высокий, средний и низкий, деление, впоследствии усвоенное и Ломоносовым. В этом же курсе он борется за рациональную ясность стиля.
«Самый обыкновенный недуг нашего времени, – пишет он, – есть тот, который мы можем назвать курьезным слогом, потому что в числе других средств для приобретения ученой знаменитости ученые хвастуны усвоили себе манеру выражаться как можно удивительнее и необыкновеннее». Здесь Феофан предвосхищает теоретические взгляды Сумарокова.
В это же время (1705) Феофан написал для школьного спектакля в Академии стихотворную трагедо-комедию «Владимир»; в ней он изобразил крещение Руси; в образе мудрого реформатора Владимира он прославил Петра, а в сатирических образах диких и наглых негодяев-жрецов Курояда, Пеяра (пьяницы) и Жеривола, обманывающих народ и корыстно отстаивающих язычество, – реакционеров, противников петровских реформ, и, в частности, духовенство его времени.
Сцены, в которых действуют жрецы, написаны бойко, забавно; они имеют характер остроумной сатиры. Не понять прозрачных намеков Феофана, не увидеть за именами и событиями Х века живую современность было невозможно. Пьеса Прокоповича недвусмысленно агитировала за дело Петра. И понятно, почему в доносе на Феофана (автором его был некий Маркел Родышевский, в свое время вместе с Прокоповичем преподававший в Киевской академии) говорилось, что он, Феофан, «архииереев, иереев православных жрецами и фарисеями называет; священников российских называет жериволами, лицемерами, идольскими жрецами».
«Владимир» Феофана Прокоповича представляет собой незаурядное художественное произведение. Во многом эта «трагедо-комедия» следует правилам школьной, схоластической теории драматургии, изложенным между прочим и в курсе поэтики самого Прокоповича. Так, она построена но законам этой теории: сначала идет пролог, своего рода стихотворное предисловие (вся пьеса написана в стихах). Затем – пять актов, из которых первый заключает изложение экспозиции, сущности конфликта; это так называемый «протазис»; второй акт заключает завязку, т.е. начало действия, – «эпитазис» школьной теории. У Феофана завязкой является начало борьбы жрецов с Владимиром, решившим упразднить язычество. Третий акт – кульминация действия, должен изображать борьбу, препятствия, столкновения; это «катастазис». У Феофана здесь показан Владимир, сомневающийся на путях к истине, и спор Жеривола с философом-христианином. Четвертый акт – переход к развязке (борьба в душе Владимира). Пятый акт – «катастрофа», или развязка: по приказу Владимира идолы сокрушены и жрецы посрамлены. Заканчивается пьеса эпилогом – хором ангелов и апостола Андрея, предрекающего славу Киеву.
Несмотря на внешне точное следование канонам, две особенности отличают «Владимира» от обычных школьных драм украинской традиции даже помимо острой политической прогрессивной тенденции пьесы; во-первых, это – попытка изобразить душевный, психологический конфликт в сознании Владимира, раздираемого сложной борьбой старых привычных представлений с новой истиной, постепенно открывающейся ему, и, с другой стороны, борьбой плотских вожделений его с высоким идеалом морали, преодолевающим страсти. Во-вторых, это обилие и яркость бытовых сатирических мотивов в пьесе Прокоповича, иронических и забавных черточек, придающих «трагедо-комедии» подлинную живость, – как и злая характеристика негодяев-жрецов; жрец Курояд рассказывает о Жериволе:
Аз дивную вещь видех: когда напитанный
Многими жертвами, он лежаще в охлади,
А чрево его бяше превеликой клади
Подобное; обаче в сытости толикой
Знамение бысть глада и алчбы великой;
Скрежеташе зубами на мнози без меры,
Движа уста и гортань!..
И во сне жрет Жеривол,
а потеряв аппетит от убивающих его бедствий, Жеривол «единого токмо пожирает быка на день». Таким образом, Жеривол дан Феофаном в тонах сказочного сатирического гротеска*.
* О драме Феофана см.: Тихонравов К. С. Трагедо-комедия Феофана Прокоповича «Владимир»//Тихонравов Н.С. Сочинения. Т. II. М., 1898.
Когда Петр вызвал Феофана в Петербург и поручил ему важные государственные дела, он забросил стихотворство, продолжая заниматься им главным образом на досуге, для себя, а все свое дарование отдал пропаганде дела Петра.
Он писал законоположения, богословские трактаты, педагогическую книгу «Первое учение отрокам», исторические сочинения, политические статьи и, в особенности, проповеди. Он написал и предисловие «Морскому уставу», и обширный «Духовный регламент» (1720–1721), официальное положение о церкви в новой ее организации. Регламент содержит не только закон, но и публицистическое истолкование его. Феофан обрушивается в нем на старые церковные порядки, дает сатирическое изображение важничающих епископов и подхалимствующих воров-прихлебателей епископских, описывает проповедников, кривляющихся и играющих роль на кафедре (здесь современники видели намек на противника Феофана – Стефана Яворского). Попутно Феофан требует борьбы с тунеядцами, лентяями-нищими, доказывая, что их отлынивание от работы наносит экономический ущерб государству. Одна из основных идей регламента – необходимость просвещения, науки, которые способны преодолеть неустройства прежней русской жизни. «Дурно многие говорят, – заявляет Феофан, – что учение виновно есть ересей... Учение доброе и основательное есть всякой пользы как отечества, так и церкви, аки корень и семя и основание»; «если посмотрим чрез истории, аки чрез зрительные трубки, на мимошедшие веки, – увидим все худшее в темных, нежели светлых учением временах». Этот лозунг просветительства, ставший основой передового мышления в России XVIII века, был непосредственно направлен против реакции петровского времени, всегда апеллировавшей к религии, церковным традициям, к опасению распространения ересей и безбожия от науки.
Против суеверий, против жадности попов, против спекуляции церковников на «чудесах» Феофан видит противоядие в просвещении. «Регламент» предлагает в качестве одной из просветительных мер составление и издание популярных книжек – «некие краткие и простым человеком уразумительные и ясные книжицы»; затем «Регламент» останавливается на другом, еще более важном орудии просвещения – школах, «домах училищных». Общий смысл «Регламента» – призыв бороться с реакционной стариной, с ветхозаветным застойным укладом жизни во имя прогресса. А ведь это был совершенно официальный правительственный документ!