Михаил Бахтин - Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса
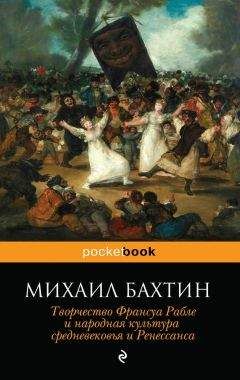
Помощь проекту
Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса читать книгу онлайн
Все четыре имени-прозвища амбивалентны. Первые три обозначают «глотку» не как нейтральный, анатомический термин, а как хвалебно-бранный образ обжорства, проглатывания, пожирания, пира. Это тот же разинутый рот, могила-утроба, поглощение-рождение. Такое же значение имеет и этимология Пантагрюэля, как всежаждущего, раскрывающая амбивалентный смысл его традиционного образа. Отсутствие корней в национальном языке, конечно, ослабляет амбивалентность этого имени [233].
Таким образом, имена, полученные Рабле по традиции, либо с самого начала являются хвалебно-бранными прозвищами, либо превращаются в такие путем искусственной этимологизации.
Такой же характер амбивалентных прозвищ носят и имена, созданные самим Рабле. В этом отношении показательно перечисление шестидесяти четырех имен поваров в «Четвертой книге» романа. Все эти имена – прозвища, характерные именно для поваров. В основу их положены главным образом названия блюд, рыб, салатов, овощей, посуды, различных кухонных принадлежностей. Например, супы дают ряд имен: Bouillonsec, Potageanart, Souppimars и др.; мясо также дает ряд имен: Soufflembayau, Cochonnet и т. д.; очень много имен образовано от сала (lard). Эта часть перечисления – громкая кухня и пир в форме собственных имен. Другая часть перечисления – прозвища бранного типа: в основе их лежат названия различных физических недостатков, уродств, нечистоплотности и т. п. Эта часть ряда имен по своей стилистической и образной природе совершенно аналогична ряду ругательств, например, тому, которым пекари награждают пастухов.
Характер бранных прозвищ носят имена советников и воинов Пикрохоля. Например, Merdaille, Racquedenare (скупердяй), Trepelu (замухрышка), Tripet (шкалик).
Образование собственных имен по типу ругательств является наиболее распространенным способом как у Рабле, так и вообще в народной комике.
Особый характер носят хвалебные имена греческого типа. Например, воины Грангузье в отличие от воинов Пикрохола носят греческие имена хвалебного типа: Sebaste (почтенный), Tolmere (смелый), Ithibol (прямой). К этому хвалебному типу принадлежат и имена таких героев Рабле, как Понократ, Эпистемон, Эстен и даже Панург (Πανούργος – способный все делать, «на все руки мастер»).
Все эти греческие имена формально аналогичны прозвищам, но они риторичны и лишены подлинной амбивалентности. Эти имена подобны разобранным нами риторизованным разъединенным рядам хвалы и брани в официальных местах романа Рабле.
Подлинная амбивалентность присуща лишь тем хвалебно-бранным именам-прозвищам, корни которых уходят в почву национального языка и связанной с ним народной образности.
Ограничимся разобранными примерами. Все имена у Рабле тем или иным способом осмыслены как хвалебно-бранные прозвища или клички. Исключение составляют лишь имена реальных исторических лиц и реальных друзей автора (например, Тирако) или такие, которые должны к ним приближаться по звуковому образу (например, Рондибилис вместо Ронделе).
Но и другие собственные имена, кроме лиц, проявляют ту же тенденцию к амбивалентному хвалебно-бранному осмыслению. Мы видели, что ряд географических названий получал телесно-топографическое осмысление, например, Trou de Gibraltar, Bondes de Hercule и др. В некоторых случаях Рабле прибегает к искусственной этимологизации комического типа, как, например, при объяснении происхождения названий «Paris» и «Bauce». Здесь имеются, конечно, особые оттенки, но основная грубая линия осмысления имен и превращения их в хвалебно-бранные прозвища остается той же.
Наконец, в романе имеется ряд глав, где специально разрабатывается тема имен и названий в теоретическом плане. Так, в «Третьей книге» трактуется проблема происхождения названий растений, в «Четвертой книге» развертывается карнавальная игра именами на острове Эннезин, в той же книге имеется длинное рассуждение об именах в связи с именами капитанов Riflandouille и Tailleboudin.
Собственные имена в романе Рабле стремятся, таким образом, к пределу хвалебно-бранных прозвищ и кличек. Но к тому же пределу стремятся, как мы видели, и имена нарицательные. Момент общности в раблезианском контексте ослаблен. Имена животных, птиц, рыб, растений, органов, членов и частей тела, блюд и напитков, предметов кухонной утвари и домашнего обихода, оружия, частей одежды и т. д. – в романе Рабле звучат почти как имена-прозвища персонажей в своеобразной сатировой драме вещей и тела.
При анализе эпизода с подтирками мы наблюдали эту своеобразную роль вещей, как персонажей комической драмы (драма тела сочеталась с драмой вещей). Нужно подчеркнуть, что многие из вульгарных названий трав, растений и некоторых вещей, фигурировавших в качестве подтирок, были еще свежи и девственны в литературно-книжном контексте. Момент общности был в них еще слаб; это были еще не названия, а имена-прозвища. Их неожиданная роль в ряду подтирок еще более содействовала их индивидуализации. Ведь в этом своеобразном ряду они вступают в совершенно новую группировку. Они изъяты даже из тех слабых систематизирующих и обобщающих связей, в которых они до сих пор фигурировали в речи. Их индивидуально-именной характер усиливается. Кроме того, в динамическом бранном ряду подтирок резко выступает их материальность и их индивидуальная форма. Название здесь почти превращается в характерное имя-прозвище персонажа фарсовой сценки.
Новизна вещи и ее названия или обновление старой вещи ее новым употреблением и новыми неожиданными соседствами по-особому индивидуализируют вещь и усиливают в ее названии момент собственности, приближают его к имени-прозвищу.
Особое значение для индивидуализации названий имеет общая насыщенность раблезианского контекста собственными именами (географическими названиями и именами лиц). Мы уже говорили, что для сравнений и сопоставлений он привлекает исторически единственные вещи (например, пироги он сравнивает с бастионами города Турина). Каждой вещи он стремится дать историческую и топографическую определенность.
Наконец, особое значение имеет пародийное разрушение устаревших идеологических и смысловых связей между вещами и явлениями, а иногда даже элементарных логических связей (алогизмы coq-à-l’âne). Вещи и их названия, освобожденные от пут умирающего мировоззрения, выпущенные на волю, приобретают особую вольную индивидуальность, и их названия приближаются к веселым именам-прозвищам. Девственные слова устного народного языка, еще недисциплинированные литературно-книжным контекстом с его строгой лексической дифференциацией и отбором, с его уточнениями и ограничениями значений и тонов, с его словесной иерархией, приносят с собой особую карнавальную свободу и индивидуальность и потому легко превращаются в имена персонажей карнавальной драмы вещей и тела.
Таким образом, одна из существеннейших особенностей в стиле Рабле заключается в том, что все собственные имена, с одной стороны, и все нарицательные названия вещей и явлений, с другой стороны, стремятся как к своему пределу к хвалебно-бранному прозвищу и кличке. Благодаря этому все вещи и явления в мире Рабле приобретают своеобразную индивидуальность: principium individuationis – хвала-брань. В индивидуализирующем потоке хвалы-брани ослабляются границы между лицами и вещами: все они становятся участниками карнавальной драмы одновременной смерти старого и рождения нового мира.
* * *Обратим внимание еще на одну довольно характерную особенность стиля Рабле – на карнавальное использование чисел.
Античная и средневековая литература знают символическое, метафизическое и мистическое использование чисел. Существовали священные числа: три, семь, девять и др. В «Гиппократов сборник» был включен трактат «О числе семь». Это число обосновывалось здесь как кризисное число для всего мира и особенно для жизни человеческого организма. Но число и само по себе, то есть всякое число, было священным. Античность была проникнута пифагорейскими представлениями о числе как основании всего сущего, всякого строя и порядка, включая и самих богов. Средневековая символика и мистика чисел общеизвестна. Священные числа клались и в основу композиции художественных произведений, в том числе и литературных. Вспомним Данте, у которого священные числа определяют не только построение всей вселенной, но и композицию его поэмы.
Можно, несколько упрощая, так определить основы античной и средневековой эстетики числа: число должно быть определенным, завершающим, округлым, симметричным. Только такое число может лечь в основу гармонии и завершенного (статического) целого.
Рабле совлекает с чисел их священные и символические одеяния, развенчивает их. Он профанирует число. Но это не нигилистическая, а веселая карнавальная профанация, возрождающая и обновляющая число.
В романе Рабле очень много чисел, почти ни один эпизод без них не обходится. И все они носят карнавальный и гротескный характер. Достигается это разными средствами. Иногда Рабле дает прямое пародийное снижение священных чисел: например, девять вертелов для дичи по числу девяти муз, три триумфальных столба с карнавальными аксессуарами (в эпизоде с уничтожением шестисот шестидесяти рыцарей, причем и самое число рыцарей пародийно-апокалипсическое). Но таких чисел сравнительно немного. Большинство чисел поражает и вызывает смеховой эффект своим гротескным гиперболизмом (количеством выпитого вина, съеденной пищи и т. п.). Вообще у Рабле все количественные определения, выраженные числами, безмерно преувеличены и раздуты, хватают через край, нарушают всякое правдоподобие. В них нарочито нет меры. Далее, комический эффект вызывает претензия на точность (притом чрезмерную) при таких ситуациях, когда сколько-нибудь точный подсчет вообще невозможен: например, указывается, что Гаргантюа потопил в своей моче «двести шестьдесят тысяч четыреста восемнадцать человек». Но самое главное – в самой гротескной структуре раблезианских чисел. Поясним все это на примере.

























