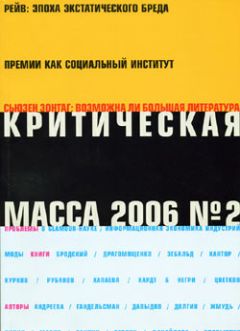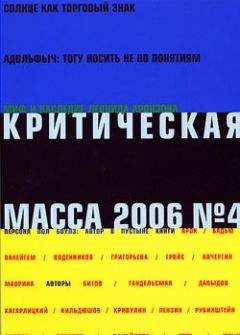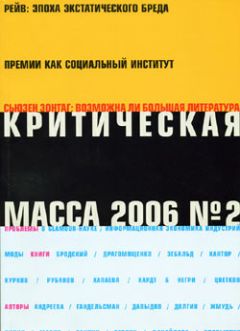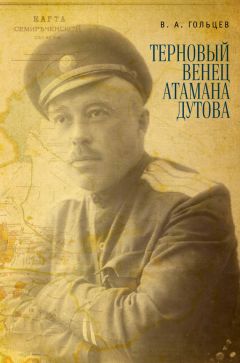Журнал - Критическая Масса, 2006, № 3
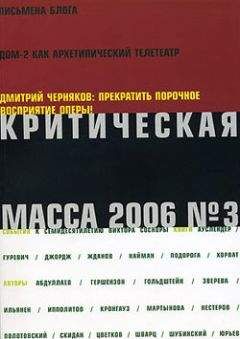
Помощь проекту
Критическая Масса, 2006, № 3 читать книгу онлайн
П. Г. Но это и есть наша культурная ситуация: драматические критики не знают музыки, музыкальные — слепы, архитекторы ничего не читают, профессора театральных школ пишут с чудовищными грамматическими ошибками и совсем не ставят запятых, писательница ненавидит “Черный квадрат” за то, что он черный, а ей больше нравится фисташковый, “балетные” не знают и не понимают вообще ничего. Здесь никто не ощущает культуру как единое и непрерывное пространство. Любопытно, что опера — как линза, в которой сходится все: музыка, театр, литература, архитектура, дизайн, живопись и так называемое “современное искусство”. И именно потому пространство оперы так актуально сегодня в европейской культуре. В опере работают лучшие режиссеры кино и театра, лучшие архитекторы, дизайнеры, художники. И коль скоро мы заговорили о статье Петра Поспелова, я хочу пояснений. Что повергло тебя в состояние оторопи, какая идеологема, какой поворот мысли?
Д. Ч. Прежде чем говорить о статье Поспелова, скажу вот что: я отношусь к тому, чем занимаюсь, как-то очень всерьез. Для меня оперные партитуры — глубокие и сложные произведения, настолько же глубокие и сложные, как романы Томаса Манна или квартеты Шостаковича. Произведения музыкального театра — это полноценные произведения искусства, внутри которых всегда есть сложное человеческое, чувственное, интеллектуальное содержание, и я убежден, что современный театр может воспользоваться любыми способами, чтобы раскрыть его. Какие предметы размещены на сцене для того, чтобы реализовать это содержание — для меня второстепенный вопрос. Анализировать спектакли, сравнивать их, давать им оценку можно только исходя из их глубинной сути, а не из описи предметов реквизита… Так вот, в статье Пети Поспелова кроме “Фальстафа” и “Тристана” в Мариинском театре упоминаются “Волшебная флейта” и “Норма” в Новой опере. И единственное, что мог сказать Поспелов о двух последних спектаклях, это то, что в них обоих артистка такая-то выходит на сцену с серпом. У меня это вызвало даже не смех, у меня это вызвало ужас — правда, ужас. Во-первых, потому, что как ни относись к “Волшебной флейте” Ахима Фрайера (я считаю, что это неудачный его спектакль), но это спектакль выдающегося человека, где все следы его стиля абсолютно проявлены. Я видел его “Волшебную флейту” в Зальцбурге — гениальную, и московский спектакль, конечно, слабый сколок зальцбургского, но я понимаю, что эта “Волшебная флейта” внутри своего мира абсолютно целостна, в ней все последовательно, в ней нет халтуры. То же самое относится и к “Норме” Йосси Виллера и Серджио Морабито (в 2002 году ее штутгартский вариант был признан журналом Opernwelt лучшим оперным спектаклем). Я видел штутгартский вариант — мне он кажется безупречным. Каждый раз, когда я смотрел этот спектакль, у меня возникало ощущение счастья от необыкновенной естественности каждого сценического поворота. Это так редко бывает. В этом есть какое-то величие этого спектакля, при том что в “Норме” Вилера — Морабито совершенно другая система образов, другие мотивировки, отличные от оригинального либретто.
П. Г. В чем проявлена “естественность”: в адекватности новой системы образов, предложенной сегодня режиссером, музыкальной ткани, созданной сто пятьдесят лет назад композитором?
Д. Ч. Да, в совпадении с музыкальной тканью, но не в буквальном. Опера — это не театр “Кабуки”, где зритель получает не какой-то эмоциональный ожог от спектакля, а следит за тем, как правильно исполняется ритуал, принятый из века в век. Может быть, “Норма” первый раз вывернута наизнанку, но повторю, такой способ прочтения не в конфликте с музыкальной тканью. Когда звучит музыка, нет никакого ощущения несовпадения. Вот, например, говорят: смотрел я тут “Хованщину” — не было тогда таких костюмов! Но в партитуре не зашифрован крой костюмов. Оперные партитуры — это поток эмоций. И если я правильно понимаю, нужно сделать так, чтобы сидящий в зале человек воспринимал оперу не как театр “Кабуки”, то есть как часть культурной повинности (я тебя уверяю, девяносто девять процентов зрителей здесь воспринимают оперу как культурную повинность), а добиться того, чтобы он хоть на секунду почувствовал, что все это каким-то образом имеет к нему непосредственное отношение. И отнесся к этому всерьез. В принципе, отношение к традиционной опере в России — это не отношение всерьез, это отношение со скидкой. Я уверен, что те, кто на представлениях моей “Аиды” не наливаются изначально кровью, а пытаются смотреть ее непредвзято, в определенные моменты понимают, что это не просто придуманная, элегантная, хорошо сконструированная поделка, а что-то, что их задевает по-человечески. Понимаешь, да?
П. Г. Понимаю — и поражаюсь тому, как вдохновенно и возвышенно ты говоришь о “серьезном отношении” к оперной партитуре. Тебя-то как раз обвиняют в противоположном — в попытках подмены смыслов. Обвинения, и те, что касаются твоего “Китежа”, и те, что касаются твоего “Тристана”, вполне определенны: ты наносишь вред выдающимся музыкальным произведениям, навязывая им умозрительную, измышленную тобой схему. Ты — вредитель.
Д. Ч. Теория заговора присутствует в менталитете наших людей как некая аксиома. Может быть, это какой-то особый генетический код, может быть, это пережитки страшных советских времен, но то, что все могут друг друга подозревать в каком-то злонамеренном вредительстве, в заговоре, в том, что кто-то пришел для того, чтобы испортить прекрасную русскую оперу, — это коллективная неврастения, массовый психоз. Я до сих пор помню, как перед премьерой “Китежа” одна из концертмейстерш Мариинского театра призывала одевающихся в гардеробе артистов вмешаться, звонить Гергиеву, поднять скандал, бунт, не знаю что, потому что великая русская опера “Китеж” кончается в “этом” спектакле тем, что две бабушки-блокадницы (собственно, непонятно, почему “блокадницы”?) сидят в домике, и что это безобразие. Артисты лениво смотрели на концертмейстершу и расходились, и я не могу понять, чего здесь было больше, согласия или безразличия. Но ощущение накала эмоций было очень сильным… Мне жаль, что в практике русских оперных театров нет того, что в Германии называется Publikumgespraech — встречи зрителей с режиссером. Я хочу после премьеры “Евгения Онегина” в первый раз провести такую встречу в Большом театре. После третьего или четвертого спектакля останутся те, кому это интересно; сначала выступлю я, потом мне можно будет задать любые вопросы, можно будет обхамить меня, сделать все, что угодно. Я хочу это устроить, потому что уверен, что тактика замалчивания, упорства, утаивания (типа, сами дураки) кажется мне сейчас неубедительной. Я хочу открыто выложить карты перед теми, кто меня обвиняет в страшных вещах, о которых ты говоришь. Я абсолютно уверен, что девяносто девять процентов из них никогда так подробно не изучали это произведение, как изучил его я, готовясь к постановке. Поэтому, моя аргументация безупречна. Обвинить меня в халтуре невозможно. Сейчас об этом рано говорить, но я уверен, что большинство моих ответов убедят многих, если, конечно, они открыты к диалогу. Если нет — разговор бессмыслен. Если люди хотят выяснить, “надругательство” ли это, “честно” это или “нечестно”, “разрушаю” я или “созидаю” и вообще, “понял” ли я что-то про это произведение, я расскажу им все. Львиная доля моей работы над спектаклем (семьдесят процентов времени) — это не работа с артистами, а изучение и придумывание того, что я должен сделать, как мне это сделать, какие средства найти, и вообще собственно процесс раскапывания. Это самая сложная часть моей работы, и именно потому я так часто затягиваю, переношу и срываю все сроки. Для меня существует “гамбургский счет”, и меня охватывает психоз, когда я понимаю, что внутри меня нет гармонии, нет ощущения того, что я нашел какой-то perpetuum mobile…
П. Г. Вот-вот, они как раз в этом тебя и обвиняют — в “придумывании”. Они называют это “надумыванием” и вообще “думанием”, которое в принципе есть страшный враг.
Д. Ч. Да, я придумываю. И я готов открыто говорить, что “придумывание” театрального спектакля и есть основное содержание работы режиссера. Но придумывание придумыванию рознь. В той же Германии, где отношение к оперному театру как к “театру” гораздо более серьезное и значительное, чем здесь, я знаю огромное количество имевших успех спектаклей, “придумывание” которых велось от необоснованной точки отсчета.
П. Г. Что ты считаешь необоснованной точкой отсчета?
Д. Ч. Объясню: театральные схемы, которые использованы во многих оперных спектаклях, поверхностны и искусственны по отношению к произведению. Эти схемы могут быть увлекательны и даже иметь успех у публики, например спектакли какого-нибудь Ханса Нойенфельса, но ощущение случайности, пустоты и искусственности ужасно мешало мне смотреть эти спектакли. В каждой опере, особенно в большой серьезной опере, типа “Князь Игорь”, “Тристан”, “Парсифаль”, “Китеж”, очень много смысловых, содержательных вопросов. “Князь Игорь” вообще на восемьдесят процентов состоит из неотвеченных вопросов. Это — опера-руина, она не дописана композитором до конца, от нее остались черновики автора, законченные фрагменты, куски, оркестрованные тем-сем. В какой последовательности все это играть — до сих пор вопрос. И исходя только из музыкальной логики, из логики того, как осуществляются тональности, как одна гармония переходит в другую — исходя только из такой логики ответить на вопросы “Князя Игоря” невозможно. На них нужно отвечать, к ним нужно подходить с интеллектуальной стороны. Я уверен, что опера — интеллектуальное сочинение, в котором музыка является той эмоциональной средой, которая проявляет интеллектуальный смысл (даже какая-нибудь опера Cosi fan tutte, которая на поверхностный взгляд кажется пустяком, очень глубокое произведение). Так вот, мне совершенно необходимо ответить на эти содержательные вопросы. Я ужасно мучаюсь, у меня куча неуверенности, я сто раз пытаюсь позвонить в театр и отказаться от постановки, испытывая ощущение собственной никчемности и отсутствия аналитических способностей, когда чувствую, что не нахожу ответа, то есть ничего не “придумываю”. Я пытаюсь увидеть произведение как кардиограмму, мне очень важно понять, как каждый акт существует графически, я пытаюсь увидеть его как движение кардиограммы — вот это не эстетический подход, а смысловой. Мой “Китеж” в этом смысле еще не был последовательным спектаклем, потому что в нем увлечение “стилем”, “эстетикой” было еще очень сильным (конечно, в “Китеже” это увлечение обслуживало какие-то смыслы, но до “Китежа” мания “стиля” была самодовлеющей). Этот путь — путь исследования произведения — является сейчас для меня самым главным и прекрасным… А в спектаклях, которые придуманы от необоснованной точки отсчета, режиссеры не исследуют произведение, не пытаются в нем разобраться. Они просто придумывают свой собственный сюжет, который абсолютно механически соединяется с партитурой. Иногда это совпадает, а иногда нет, и тогда это выглядит ужасно. Может быть, эти режиссеры не проявляют волю, чтобы разобраться, может, им так легче ставить спектакли, может быть, они считают, что внутри произведения нет никакой таинственной темноты, которую надо осветить, но такое придумывание — а похоже, что меня обвиняют именно в нем, — такое придумывание мне несимпатично. Я надеюсь, что у меня, даже когда спектакль не удался, есть свои внутренние сюжеты.