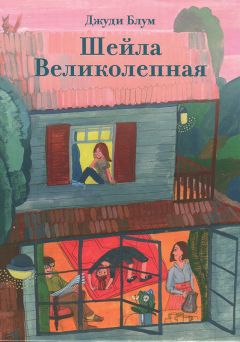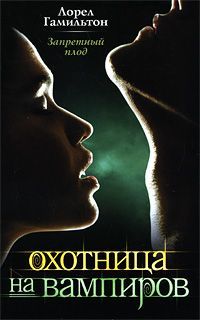Хэролд Блум - Страх влияния. Карта перечитывания
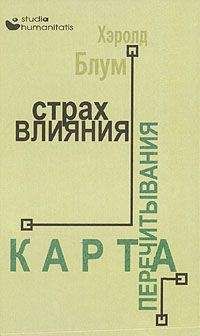
Помощь проекту
Страх влияния. Карта перечитывания читать книгу онлайн
Фрейд считал сублимацию высочайшим достижением человека, и это мнение делает его союзником Платона и традиций как иудаистской, так и христианской морали. Сублимация, о которой пишет Фрейд, подразумевает замену первоначального модуса удовольствия более благородным, что и возвышает второй шанс над первым. С точки зрения, представленной в моей книге, поэма Фрейда недостаточно серьезна, в отличие от серьезных поэм, написанных творческой жизнью сильных поэтов. В уравнивании эмоциональной зрелости с открытием приемлемых замещений есть, быть может, жизненная мудрость, в особенности в царстве Эроса, но не в этом мудрость сильных поэтов. Подчинившееся сновидение — это не просто фантазия о бесконечном удовольствии, но величайшая из всех человеческих иллюзий: видение бессмертия. Если «Ода: признаки бессмертия в воспоминаниях раннего детства» Вордсворта обладает всего лишь мудростью, которую мы находим и у Фрейда, нам не стоит называть ее «Великой Одой». Вордсворт тоже считает повторение, или второй шанс, существенным для развития, и его ода предоставляет нам возможность иначе направить наши влечения, используя замещение и сублимацию. Но печальная ода также пробуждает чувство неудачи и протест творческого духа против тирании времени. Критик-вордсвортианец, даже такой лояльный по отношению к Вордсворту, как Джеффри Хартман, может настаивать на твердом различении приоритета как концепции естественного порядка и авторитета, связанного с духовным порядком, но ода Вордсворта отказывается проводить это различие. «Стремясь обрести приоритет, — мудро замечает Хартман, — искусство борется с природой на почве самой природы и потому обречено на поражение». Книга, которую Вы читаете, доказывает, что сильные поэты обречены на неразумие такого рода: Великая Ода Вордсворта борется с природой на почве самой природы и терпит величайшее поражение, хотя оно и сохраняет ее величайшую грезу. Эта греза в оде Вордсворта осенена страхом влияния, вызванным величием стихотворения-предшественника, «Люсидас» Мильтона, в котором отказ от полной сублимации дается человеку с еще большим трудом, несмотря на очевидные уступки христианским учениям о сублимации.
Ведь всякий поэт начинает (хотя бы бессознательно) с восстания против неизбежности смерти, действуя решительнее, чем прочие мужчины и женщины. Юный гражданин страны поэзии, или эфеб, как назвали бы его в Афинах, уже противоестественный и антитетический человек, и с самого начала своего поэтического творчества он уже ищет то невозможное, которое до него искал его предшественник. То необходимое умаление значения поэзии, к которому приводит такой поиск, кажется мне неизбежной реализацией ее возможностей, что и подтверждают данные строгой литературной истории. Великие поэты английского Возрождения не побеждены своими последователями-Просветителями, а вся традиция пост-Просвещения, т. е. романтизма, в лице ее модернистских и постмодернистских наследников свидетельствует о дальнейшем упадке поэзии. Размышления какого-то читателя не приблизят смерть поэзии, и все-таки утверждение, что наша традиционная поэзия умрет как самоубийца, будет убита своей собственной минувшей силой, кажется неоспоримым. Скрытая боль моей книги — боль за романтизм, который, при всей своей славе, был, быть может, лишь выдуманной трагедией, самообманным начинанием не Прометея, но ослепленного Эдипа, не узнавшего в Сфинкс свою Музу.
Слепой Эдип шел по дороге, ведущей к божеству оракула, и сильные поэты следовали за ним, превращая свою слепоту по отношению к предшественнику в ревизионистские прозрения своего собственного произведения. Шесть шагов ревизии, которые я намерен проследить в жизненном цикле сильных поэтов, могут с равным успехом и быть другими, и носить не те имена, которые я им присвоил. Я ограничил их число шестью, потому что мне показалось, что этого достаточно для понимания того, как один поэт отклоняется от другого. Имена, пусть произвольные, заимствованы из разных традиций, сыгравших важную роль в жизни западного воображения, и, я надеюсь, их можно будет использовать.
Величайший поэт, писавший на английском языке, исключен из моей книги по нескольким причинам. Одна из них — неизбежно историческая. Шекспир принадлежит допотопной эре гигантов, тому времени, когда страх влияния еще не стал центром поэтического сознания. Другая имеет прямое отношение к противопоставлению лирической и драматической формы. Чем более субъективна поэзия, тем большую власть приобретает отбрасываемая предшественником тень. Однако главная причина заключается в том, что предшественником Шекспира был Марло, поэт менее значительный, чем его великий последователь. При всей своей силе Мильтон уже вынужден был бороться, тонко и критично, с великим предшественником в лице Спенсера, и в этой борьбе он и сформировался, и деформировался. Кольридж, эфеб Мильтона и — позднее — Вордсворта, был бы рад обрести своего Марло в Купере (или в еще более, слабом Боулзе), но влияние не выбирают. Шекспир представляет величайший пример языка, в котором предшественник присваивается абсолютно, пример феномена, пребывающего за пределами области, исследуемой в моей книге… Битва меж равными силой могучими противниками, отцом и сыном, Лайем и Эдипом, на перекрестке дорог — вот каков мой предмет, хотя некоторые отцы, как мы увидим далее, — образы собирательные. Даже мне вполне ясно, что и сильнейшие поэты подвержены непоэтическим влияниям, но опять-таки мой предмет — только поэт в поэте, или изначальное поэтическое «я».
Изменение представлений о влиянии, похожее на то, что я предлагаю, поможет нам вернее прочитать поэзию любой известной в прошлом группы поэтов-современников. Рассмотрим, например, учеников-викторианцев Китса, неверно толковавших его в своих стихотворениях, в том числе Теннисона, Арнольда, Хопкинса и Росетти. Невозможно однозначно утверждать, что Теннисон одержал победу в долгой скрытой борьбе с Китсом, но его очевидное превосходство над Арнольдом, Хопкинсом и Росетти объясняется его частичной победой и их частичными поражениями или, по крайней мере, тем, что он сберег свое. Элегическая поэзия Арнольда неловко смешивает стиль Китса с антиромантической чувствительностью, в то время как мнимые глубины и натянутые обороты речи Хопкинса и крайняя мозаичность искусства Росетти несовместимы с возложенным на их поэтическое «я» бременем, которое им хотелось бы сбросить. В наше время стоит приглядеться к бесконечному соревнованию Паунда с Браунингом, да и к длительной и в основном тайной гражданской войне Стивенса с величайшими поэтами английского и американского романтизма — Вордсвортом, Китсом, Шелли, Эмерсоном и Уитменом. Так же как и в случае викторианских последователей Китса, это лишь примеры более строгого изложения истории поэзии, если уж ее нужно рассказывать.
Главной целью моей книги, вне всякою сомнения, станет изложение критических воззрений одного читателя в контексте как критики, так и поэзии его поколения, постоянные кризисы которых терзают его сильнее всего, а также в контексте его собственного страха влияния. В современных стихотворениях, больше других порадовавших меня, таких как «Залив Корсонс» и «Отметины» А Р. Эммонса и «фрагмент» и «Больше дела» Джона Эшбери, я смог увидеть силу, борющуюся против смерти поэзии, и все-таки, в то же время, истощение последыша. Вот так же и в современной литературной критике, в таких книгах, как «Аллегория» Энгуса Флетчера, «По. ту сторону формализма» Джеффри Хартмана и «Слепота и прозрение» Поля де Мана, вполне прояснивших для меня мои собственные уклонения, я увидел попытки преодоления тупика формалистической критики, голого морализирования, в которое выродилась архетипическая критика, и антигуманистической плоской мрачности всех тех течений европейской критики, которые уже, должно быть, продемонстрировали, что способны добавить к прочтению любого стихотворения любого поэта все, что угодно. Промежуточная глава моей книги, предлагающая самую антитетическую критику из всех ныне существующих, — вот мой ответ на эти современные проблемы.
Теорию поэзии, представляющуюся серьезной поэмой и полагающуюся на афоризмы, изречения и довольно-таки личный (хотя в широком смысле слова и традиционный) вариант мифологии, все же можно обсуждать, и, представляя доказательства, она может вызывать на обсуждение. Все, из чего складывается моя книга, — притчи, определения, разработка пропорций ревизии как механизмов защиты — все стремится стать частью единого размышления о том, сколь меланхолично безнадежно-настойчивое требование творческим духом приоритета. Вико, прочитав все творение как серьезную поэму, признал, что приоритет в природном порядке и авторитет в духовном порядке были едины и должны были остаться одним и тем же для поэтов, потому что только такая серьезность обосновывала Поэтическую Мудрость. Вико свел как естественный приоритет, так и духовный авторитет к собственности, и в этой герметической редукции я узнал Ананке, ужасную необходимость, по сей день властвующую над западным воображением.