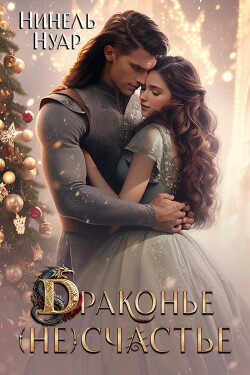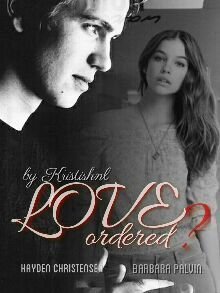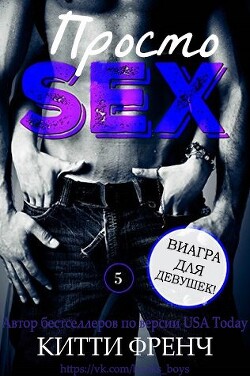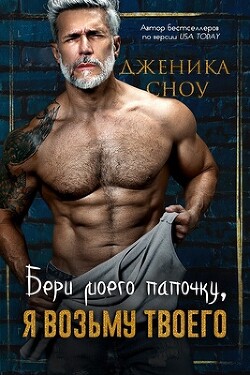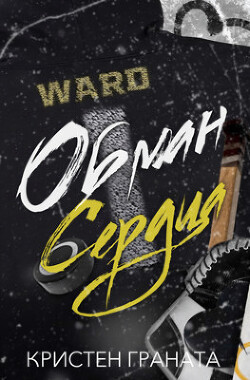Георгий Федотов - Певец империи и свободы
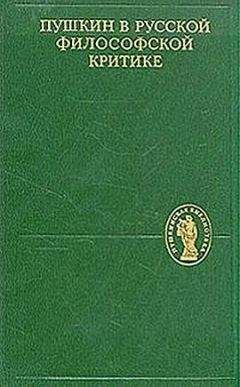
Помощь проекту
Певец империи и свободы читать книгу онлайн
и во имя ее же поставить славу рядом с рабством:
Рабства грозный гений
И Славы роковая страсть…
Но никогда, ни на одно мгновение своей жизни Пушкин не может отречься ни от свободы, ни от творчества.
Следя за темой империи у Пушкина, мы в сущности следим за политической проекцией его «славы». Приступая к свободе, не будем сразу ограничивать ее политическими рамками. Движение этой темы у Пушкина, во всей ее полноте, может многое уяснить и в изменчивой судьбе его политической свободы.
«Свобода, вольность, воля»… особенно «свободный, вольный»… нет слов, которые чаще бросались бы в глаза при чтении Пушкина. Пожалуй, они встречаются так часто, что мы к ним привыкаем, и они перестают звучать для нас (в этом омертвении привычного совершенства главная причина нередкой у нас холодности к Пушкину). Осознаем ли мы вполне смысл таких строк:
Как вольность, весел их ночлег?..
Чувствуем ли мы всю странность этого образа:
…под отдаленным сводом
Гуляет вольная луна, —
издевающегося над всеми законами астрономии?
В невиннейшей «Птичке» способны ли мы, подобно умному цензору, разглядеть серьезность и почти религиозную силу пушкинского свободолюбия:
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать?
В чем только, в каких образах Пушкин не искал воплощения своей свободы! В вине и пирах, в орле, «вскормленном на воле» и в беззаботной «птичке Божией», в волнующем море (это один из главных ликов свободы) и в линии снеговых гор. Свободе посвящены всецело поэмы (помимо не удавшегося юношеского «Вадима»): «Братья-разбойники», «Кавказский пленник», «Цыганы». Из поздних свобода, конечно, одушевляет «Анджело».
Но, в отличие от темы империи, тема свободы непрестанно движется. Пушкин не только находит все новые ее воплощения, от иных он отрекается, хотя у Пушкина отречение никогда не бесповоротно. За сменой форм ясно изменение в самой природе пушкинской свободы: не только в творчестве, но и в живой личности поэта.
В лицейские и ранние петербургские годы свобода впервые открылась Пушкину в своеволии разгула, за стаканом вина, в ветреном волокитстве, овеянном музой XVIII века. Парни и Богданович стоят, увы, восприемниками свободы Пушкина, как Державин — его империи. Но уже восходит звезда Шенье, и поэт Вакха и Киприды становится поэтом «Вольности». Юношеский протест против всякой тирании получает свою первую «сублимацию» в политической музе. В сознании юного Пушкина его политические стихи — серьезное служение. В них дышит подлинная страсть, и торжественные классические одежды столь же идут к ним, как и к революционным композициям Давида. Но у Шенье есть и другой соперник: Байрон. Политическая свобода в лире Пушкина, несомненно, созвучна той мятежной волне страстей, которая владеет им, хотя и не всецело, в начале 20-х годов: тот же взрыв порабощенных чувств, та же суровая энергия, та же мрачность, заволакивающая на время лазурь. В эти годы, на юге, море («свободная стихия») становится символом этой страстной, стихийной свободы, сливаясь с образами Байрона и Наполеона. Но как близок катарсис, аполлиническое очищение от страстей! В «Цыганах» мы имеем замечательное осложнение темы свободы, в которой Пушкин совершает над собой творческий суд: свободу мятежную он судит во имя все той же, но высшей свободы.
Алеко порвал «оковы просвещения», «неволю душных городов», и это первое освобождение — байроническое — остается непререкаемым. Он прав в своем бунте против цепей условной цивилизации. Он ищет под степными шатрами свободы, и не находит. Почему? Пушкин верит, или хочет верить, что «бродячая бедность» цыган и есть желанная «воля»:
Здесь люди вольны, небо ясно…
Но этой ясности Алеко не дано. Он несет в себе свою собственную неволю. Он раб страстей:
Но, Боже, как играли страсти
Его послушною душой.
Грех Алеко в «Цыганах» не столько против милосердия, сколько против свободы:
Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли.
Порвавшему оковы закона необходимо второе освобождение — от страстей, на которое Алеко не способен. Способны ли на это сыны степей? Поэту кажется, что да. В цыганской вольности даются два ответа на роковой вопрос: легкость изменчивой Земфиры, этой пушкинской Кармен, и светлая мудрость старика, который из отречения своей жизни выносит то же благословение природной, изменчивой любви:
вольнее птицы младость.
Кто в силах удержать любовь?
В оптимизме старика-цыгана слышатся отзвуки Руссо. Но отдавая дань и здесь XVIII веку, Пушкин все же сомневается в его правде. Один ли Алеко, чужак, угрожает счастью детей природы? Последние звуки полны безысходного, совершенно античного трагизма:
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.
Очищение Пушкина от «роковых страстей» протекает параллельно с изживанием революционной страстности. Это первый серьезный кризис его «свободы», о котором дальше. Прощание с морем в 1824 году не простая разлука уезжающего на север Пушкина. Это внутреннее прощание с Байроном, революцией — все еще дорогими, но уже отходящими вдаль, но уже невозможными.
С тех пор, на севере, свобода Пушкина все более утрачивает свой страстный, дионисический характер. Она становится трезвее, прохладнее, чище. Она все более означает для Пушкина свободу творческого досуга. Её все более приходится отстаивать от утилитаризма толпы, от большого света, в который вошел Пушкин. Она расцветает чаще всего осенью: уже не море, а русская деревня, Михайловское, Болдино являются пестунами её. Свобода Пушкина становится символом независимости. Такова её, приправленная горечью, последняя декларация (так наз. «Из Пиндемонте»):
Иная, лучшая потребна мне свобода…
Никому
Отчета не давать; себе лишь самому
Служить и угождать…
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Безмолвно утопать в восторгах умиленья —
Вот счастье! Вот права…
Но, если здесь свобода как бы снижается до себялюбия, до индивидуалистического отъединения от мира людей, то на противоположном полюсе она начинает для Пушкина звучать религиозно. Не смея касаться мимоходом чрезвычайно сложного вопроса о пушкинской религиозности, не могу не отметить, что во всех, не очень частых высказываниях Пушкина, в которых можно видеть отражение его религиозных настроений, они всегда связаны с ощущением свободы. В этом самое сильное свидетельство о свободе как метафизической основе его жизни. Религия предстоит ему не в образе морального закона, не в зовах таинственного мира, и не в эросе сверхземной любви, а в чаянии последнего освобождения.
Так он вздыхает, заглядевшись на монастырь в горах Кавказа (1829):
Туда, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине,
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!
Здесь важна интуиция Пушкина, что Бог живет в царстве свободы, и что приближение к Нему освобождает.
Переводя из Беньяна (1834) начало его суровой пуританской поэмы, весьма далекой от всякого чувства свободы, Пушкин роняет стих, который, очевидно, имеет для него особое значение:
Как раб, замысливший отчаянный побег, —
для выражения аскетического отречения от мира.
Даже прелагая монашескую, покаянную, великопостную молитву, Пушкин вкладывает в нее тот же легкий, освобождающий смысл:
Чтоб сердцем возлетать во области заочны…
И, наконец, накануне смерти, в послании к жене, он оставляет свое последнее завещание свободы, в котором явно сливаются образы Беньянского беглеца и монастыря на Кавказе.
На свете счастья нет, а есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля,
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.
Вглядимся пристальнее в ту линию, которую на общем фоне пушкинского свободолюбия описывает кривая его политической свободы, — свободы, сопряженной с империей.
Пушкин начинает с гимнов революции. Напрасно трактуют их иногда как вещи слабые и не заслуживающие внимания. «Кинжал» прекрасен, и послание к Чаадаеву принадлежит к лучшим, и, что удивительно, совершенно зрелым (1818 г.) созданиям Пушкина. Среди современных им вакхических и вольтерьянских шалостей пера, революционные гимны Пушкина поражают своей глубокой серьезностью. Замечательно то, что в них выражается не одно лишь кипение революционных страстей, но явственно дан и их катарсис. Чувствуется, что не Байрон, а аполлинический Шенье и Державин водили пушкинским пером. А за умеряющим влиянием Аполлона как не почувствовать его собственного благородного сердца?