Томас Хилланд Эриксен - Что такое антропология?
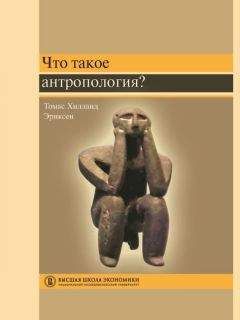
Помощь проекту
Что такое антропология? читать книгу онлайн
Социобиология человека, т. е. изучение жизни людей в обществе как биологического вида, – дисциплина, которая появилась в 1960–1970-х годах, хотя корни имеет более давние. Самым ярким моментом ее истории была публикация в 1975 г. книги Эдварда О. Уилсона «Социобиология» [Wilson, 1975]. Уилсон объявил социальные науки незрелыми дисциплинами, которые нужно вернуть в лоно материнской науки – биологии. Антропологи бурно отреагировали на эту провокацию, многие выразили несогласие и возмущение в адрес этого нелепого предложения. Салинз немедленно написал памфлет «Биология во благо и во зло» [Sahlins, 1977], в котором разбирал, в чем состоит конфликт. Во-первых, Уилсон мало что знал о существующих исследованиях культурных различий, а во-вторых, он не учитывал способность человека упорядочивать мир вокруг себя и действовать осознанно, опираясь на созданные им самим идеи и представления. Там, где Уилсон видел биологическую адаптацию, Салинз видел культурную креативность и независимость.
Позднее, особенно с начала 1990-х годов, дарвинистские исследования культуры и общества стали более продуманными, чем опыты Уилсона и других исследователей. Защитники этой теории теперь признают, что культура не всегда адаптивна (т. е. функциональна с биологической точки зрения), и соглашаются с тем, что человеческую деятельность нельзя рассматривать как чистую адаптацию. Важная отрасль социобиологии в наши дни именуется эволюционной психологией, что указывает на нечто вроде перезагрузки. Если Уилсона и его поколение особенно интересовали секс и насилие как сущностная для человечества деятельность, современные исследования направлены на изучение умственных способностей человека. Если на самом деле, как предполагает большинство ученых, современные люди появились приблизительно 200 тыс. лет назад в Африке и произошло это в результате естественного отбора, какие черты, свойственные современному человеку, являются следствиями такого отбора? (Некоторые исследователи заходят в рассуждениях об этой предполагаемой связи довольно далеко, утверждая, например, что у людей есть врожденная предрасположенность к предпочтению таких рисунков, на которых изображены зеленые поля и спокойная вода. Заявления других – не такие смелые.) Цель таких исследований – прийти к обоснованным обобщениям о том, как, с точки зрения биологии, возник разум человека.
Многое можно сказать и о новой дарвинистской социальной науке, но во всяком случае ее нельзя назвать расистской. В отличие от большинства антропологов эволюционные психологи больше занимаются исследованием сходств, а не различий между культурными группами. Для эволюционных психологов различия в интеллекте и других врожденных свойствах, которые они изучают, существуют внутри любой популяции, а не только между ними. Признанный популяризатор науки и сторонник сходной точки зрения Джаред Дайэмонд написал во введении к одной из своих книг [Diamond, 1992], что самыми умными людьми, которых он когда-либо встречал, был жители высокогорья Новой Гвинеи. Он объясняет это отсутствием у них тех «костылей» для мышления, которыми в нашем обществе стали письмо и другие формы информационных технологий, и вызванной этим необходимостью постоянно пребывать в состоянии интеллектуальной готовности. Они должны помнить все, что нужно, а кроме того, их жизнь полна риска и опасностей и вынуждает их почти всегда быть сосредоточенными. Конечно, это общее описание очень спорно, но оно может служить напоминанием о том, что новая социобиология – называет она себя эволюционной психологией или нет – принимает во внимание серьезные культурные различия (чего не делала прежняя социобиология) и отталкивается от идеи интеллектуального единства человечества.
Большинство антропологов относятся к эволюционной психологии прохладно. Они считают ее обобщения поверхностными, а объяснения – неверными. Если люди хотя бы в некоторой степени сами определяют себя, наши врожденные свойства едва ли дают что-то для объяснения культурного разнообразия. Действительно, покойный Марвин Харрис, материалист и сторонник позитивистских методов, который в силу своих убеждений мог быть естественным союзником для новых дарвинистов, резко критиковал их за это. Поскольку существующее в мире культурное разнообразие гораздо обширнее разнообразия генетического, Харрис [Harris, 1998] утверждал, что для понимания культуры нужны иные, не социобиологические объяснения.
По моему личному мнению, есть много прекрасных возможностей для сотрудничества между социальными и культурными антропологами, с одной стороны, и исследователями-биологами – с другой, но эти возможности остаются нереализованными из-за агрессивных академических войн за территорию и неспособности видеть друг в друге носителей подлинного знания, пусть и покоящегося на разных основаниях. Социобиологи и их преемники смотрят на жизнь в бинокль, приковав взгляд к минутной стрелке. (Часовая стрелка и телескоп оставлены для палеонтологов и геологов.) Социальные и культурные антропологи смотрят на жизнь через увеличительное стекло, внимательно следя за секундной стрелкой. Кроме того, они задают своему материалу вопросы разных типов. Социобиологи спрашивают: «Что есть человек?» – и совершенно справедливо отвечают, что человек как вид – маленький отросточек на конце ветви великого древа жизни. Социальные и культурные антропологи задаются вопросом: «Что значит быть человеком?» – и приходят к совершенно иным ответам [Ingold, 1994]. Социобиологи интересуются сходствами, а социальные и культурные антропологи, за редким исключением, по-прежнему одержимы поиском различий.
Если мы сможем примириться с разницей в этих подходах, согласившись с тем, что оба они необходимы, в дальнейшем нам будет легче как игнорировать друг друга (когда это нужно), определяя границы соответствующих форм знания, так и сотрудничать, если есть такая возможность. В то время, когда писалась эта книга, в интеллектуальном ландшафте просматривались лишь немногие признаки таких экуменических настроений.
Рекомендуемая литература
Diamond J. The Third Chimpanzee: The Evolution and Future of the Human Animal. N.Y.: HarperCollins, 1992.
Howell S., Willis R. (eds). Societies at Peace. L.: Routledge, 1989.
Глава 8. Мышление
Как уже говорилось, предметом антропологии являются не сокровенные мысли и чувства людей, а то, что происходит между людьми. Почему же тогда мы посвящаем эту главу мышлению? Ответ не так прост. Можно сказать, что мышление имеет важный социальный аспект: в разных обществах люди думают по-разному из-за различий в условиях обучения, жизненном опыте и т. п. В то же время у мышления, бесспорно, имеется субъективное, личностное измерение, которое невозможно исследовать методами из арсенала антропологов. К счастью, мысли обычно как-то проявляются в социальной жизни – например, когда люди говорят о том, что думают, или выражают это в своих действиях, ритуалах и иных публичных событиях. Значит, мышление можно исследовать опосредованно, доступными антропологам полевыми методами: включенным наблюдением, интервью и обычным любопытством.
Споры о рациональности
Исследование мышления и видов логики занимает в антропологии центральное место с XIX в. Самой известной (и, наверное, самой объемной) антропологической работой задолго до «полевой революции» было 12-томное издание «Золотой ветви» Джеймса Фрэзера [Frazer, 1890] – сравнительный труд о мифологии, религии и космологии фактически всех народов, о которых автор когда-либо слышал. Фрэзер разделял эволюционистские взгляды своих современников и мало верил в способность «дикарей» рассуждать рационально и в соответствии с законами логики. Младший современник Фрэзера, философ Люсьен Леви-Брюль не так блестяще работал с эмпирическими материалами, но зато писал более понятные с аналитической точки зрения тексты. Леви-Брюль представлял традиционные народы носителями того, что он неудачно назвал «пралогический тип мышления». Впрочем, он подчеркивал, что термин «пралогический» не обязательно отсылает к эволюционной линии прогресса: свободно оперирующее метафорами и символами мышление, которое Леви-Брюль связывал с традиционными народами, просто является базовым по отношению к логическому мышлению (и логически предшествует ему). Современные люди, может быть, и сохранили способность к пралогическому мышлению, но логическая рациональность его вытеснила.
Леви-Брюля жестко критиковали некоторые его современники, указывавшие, что эмпирические основания для его широких обобщений являются по меньшей мере слабыми. Но как бы то ни было, именно книги Леви-Брюля в годы Первой мировой войны подготовили почву для одной из самых интересных теоретических дискуссий в антропологии, участники которой, принадлежащие к нескольким академическим областям, обсуждали (и продолжают обсуждать), до какой степени принципиальны различия в стилях мышления между [разными] народами и, напротив, насколько можно говорить об общечеловеческой рациональности.

























