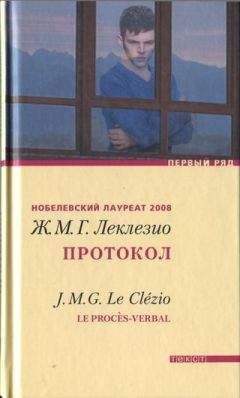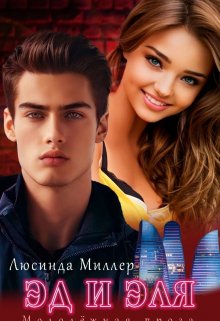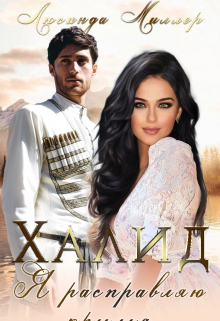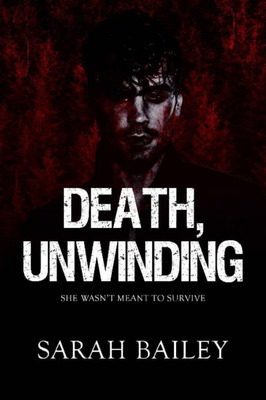Жан-Мари Леклезио - Смотреть кино
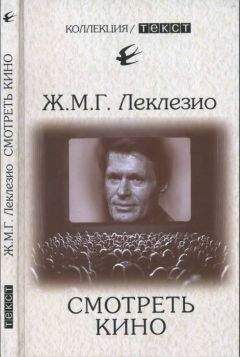
Помощь проекту
Смотреть кино читать книгу онлайн
Такая свобода — не просто свобода экономическая. Слишком легко говорить, что кино — это индустрия и оно требует вложения капиталов. Современный кинематограф доказывает, что этот довод не окончательный. Сегодня можно снимать на видео или портативной камерой, может быть, даже и камерой наблюдения. Можно снимать на улице, перед восходом солнца, не прося разрешения ни у какой охранной службы. Снимать можно без студии, без сценария, без музыки, без актеров.
Свобода есть во всем. В литературе свобода — это прямое обращение к источнику эмоций, памяти, воображения, иными словами — к речи. Вот где, должно быть, и сокрыт корень того выбора, о котором я говорил выше. Кино — это иной способ высказывания. Его язык соткан из образов. Он обращается к другой области мозга, затрагивает другую память, приводит в действие иные механизмы. В книгах я чувствую такое же колдовство, как и колдовство пения, колдовство музыки. Пока я упиваюсь сюжетом, или историями, или теми частицами истории, которые мне рассказываются, — слова, проникая внутрь, включают во мне медитацию о языке. Меня глубоко волнуют вот такая вот манера говорить, интонация, плотность текста, задушевная близость того, кто написал это для моего прочтения. Я ощущаю сарказм, гордость, запах, нежность, тепло, сокрытые в этих словах, но при этом я ведь не забываю и слов других, и песен иных. Это искры, высекаемые из жизни, сверкающей, неисчерпаемой. «Слышу песню, вижу цветок, — говорится в поэме принца ацтеков Нецауалькойотля. — Да не увянут они вовек!»
Это написано в иные времена, в ином мире, ныне давным-давно исчезнувшем, как и народ, населявший его. И тем не менее стоит мне открыть книгу — и это уже моя жизнь, мое достояние, мое настоящее. Из книги, наводящей на меня скуку, я с легкостью могу выйти вон. От книги трудной я жду чего-то необычного, чуда, озарения, иллюминации. Чтобы найти верный путь к «Поискам утраченного времени», мне очень долго пришлось возвращаться и возвращаться туда заново, теряться там, искать ключ. Однажды я нашел его: нет, никакое не печенье Мадлен — а та длинная фраза из самого начала «Любви Свана», где говорится о колокольчике у парадного дома Вердюренов: его звон возвещает прибытие того, кто включает ход памяти рассказчика. Это напомнило мне хокку о шуме горного водопада: «Вот он, исток…»
То, чем меня обогащает кинематограф, так же интимно, столь же глубоко. И по-другому. Колдовская зачарованность. Ослепление. Кино обращается к нашему чувству реального, то есть не только к нашим стереотипам или к нашим человеческим меркам, привычным для восприятия мира (вот шляпа, а это женщина, ребенок, это старик, это любовная сцена, тут преследование, там печаль), но и к нашим сенестезии и синестезии — ощущениям и отождествлениям. Высокое, низкое, глубина, прошлое, будущее, подлинное, опасное, отвратительное, сомнительное… Вот же, вот как нас околдовывают, разоблачают, похищают, закабаляют. Но в то же время мы и свободны, в полном сознании, сами пришли — можем встать да и хлопнуть откидным сиденьем, толкнуть дверь, выйти. Совершенно неповторимое состояние.
О кино говорят, что оно способно вызывать попеременно, а подчас и одновременно и смех и слезы — это пара масок классического античного театра. Такое мощное владение противоположными чувствами, наверное, и есть самое лучшее определение этого искусства. Смех в кино — это предельно просто, никаких комплексов. Со смеха кино начинало свою карьеру. Устанавливая свой необыкновенный аппарат на «разъездах» Нью-Йорка или парижских Больших бульварах, Цукор или Патэ, к бурному веселью ребятишек, зазывают клиента, желающего поглазеть в камеру, и заставляют его заплатить за это.
Чувство, сочувствие, симпатия, короче говоря — то, что вас волнует и исторгает слезы, что заставляет забиться ваше сердце, — вот что придает кинематографу его истинную глубину. Это свойственно отнюдь не только трагедии. В фильмах Чаплина, Тати, в нежных и горьких комедиях Карне или Бергмана ощутим тот же род тревоги, тайной боли, который проникает в вас и достигает самой чувствительной точки вашего существа. Это ловкий трюк киношников: ведь, в конце концов, все это не более чем тени, пробегающие по белому полотну. Даже если это цветные тени и сопутствующие им музыка и шумы громки и записаны с высокой точностью воспроизведения, это все равно не более чем обманка. Но ведь этот образ или последовательность образов обращены к вашей памяти, к вашему воображению. В «Малыше» Чаплин и Джекки Кутан, бродяжка и уличный мальчуган, волнуют все так же, как прежде. Уличная сцена, свидетелем которой вы оказались, или затянутая туманом, издалека пришедшая картинка, воспоминание, воскрешающее страх любого ребенка однажды оказаться брошенным. В «Жизни О'Хару, куртизанки» Мидзогути женщина бродит в ночи в поисках клиента, пряча лицо под покрывалом: нет, она не боится, что ее узнают, — просто ее лицо постарело и может не понравиться мужчинам, которых она завлекает; в «Легенде о Нарайяме» Имамуры старуха крестьянка разбивает себе зубы о камень, чтобы ей больше не могли отказывать в праве умереть: это не просто эпизоды, не просто театральные эффекты. Это говорит нам о повсеместной жестокости, в которой живут женщины, о несправедливостях, о роковом предопределении, это волнует нас так, словно мы пережили это сами. Ибо эти образы проникают в вас именно там, где безмолвствует бессильный язык, они как ударивший вас камень, как укол иглой, и искусство оператора и режиссера как раз в том, чтобы безошибочно прицелиться в чувствительную точку, не дав бодрствующему духу времени парировать удар. Да и как его парировать — разве что пойти в кино?
Кинематограф — это, наверное, прежде всего искусство лиц. Любят вспоминать об экспериментах Кулешова с лицом Мозжухина, или о том, как Эйзенштейн монтировал лица с масками животных, или о превращении Вакаси в страшного ночного демона в «Угэцу моногатари» Мидзогути. Но нас лицо привлекает главным образом своей банальностью, обыкновенностью. Я вспоминаю мысль Годара, сказавшего, что единственный фильм, который можно было бы назвать окончательным, идеальным, должен был бы показывать человеческое лицо с момента рождения до смерти, взяв за принцип «каждый день — один кадр», чтобы получилось двадцатиминутное зрелище лица, раскрывающегося и постепенно увядающего, как цветок.
А что, если так и есть, — поверх всех рассказываемых нам сложных и захватывающих историй кино по сути своей именно вот это: лицо, человеческое лицо во всей его тревожащей естественности, и не важно, каковы его корни, природа, красиво оно или безобразно — удивительная ли это чистота Анны Вяземски в «Наудачу, Бальтазар» или искаженная страданием и ненавистью образина Бориса Карлоффа в фильме Джеймса Уэйла, — чувственное ли свечение Моники Витти в «Приключении» или застывшая маска из кожи, на которой виден след от ожога, в «Дерсу Узала» Куросавы.
Одно лицо, все лица. С мимики кожи лиц мы считываем эмоции, которые сами переживаем в ту же минуту, ибо в этом зеркале мы видим самих себя. Кино — это, без сомнения, доказательство нашего желания быть, нашей жажды знаний. Оно порождает в нас это желание, затеяв игру с нашим сознанием, показывая нам по ту сторону плоского, жемчужного экрана, в этом лунарном сиянии, наше собственное лицо, то самое, что мы и есть, чем когда-то были. В начале моего балансирования — от лица к лицу, от фильма к фильму — я думаю еще и вот о чем: о слезах. Кино сходно с музыкой этим умением исторгнуть сии драгоценные капли, единственные по-настоящему соленые потому, что пропитаны солью этой земли и всего сотворенного на ней и появляются украдкой, нежданно, так что сдержать их нельзя. Господствующая в Западной Европе культура, наследница сальянских франков и саксов, запечатлела в нашей душе известный код, подавляющий открытые проявления эмоций. В отличие от индусов, южноамериканцев, корейцев или африканцев, у нас не принято проливать слезы. Кинематограф, с его темнотой просмотровых залов, внезапно привечает их, заставляет литься, стремится их вызвать. Что, если мы на пороге революции?
Смех сквозь слёзы
Иногда говорят, что труднее посмеяться с друзьями, чем поплакать с врагами. Если это правда, то кинематограф может служить примером такой трудности, ибо он начал смеяться с самых первых лет своей жизни. Эта необычная механика кажется созданной для уморительных забав, импровизации. Прежде чем придумать мелодраму или саспенс, кино изобрело гэг. Вырезанные из черной бумаги силуэты на белом экране передвигаются, спотыкаются, падают, поднимаются, пошатываясь, теряют все свое достоинство или пытаются обрести его заново, поправляя шляпу тросточкой. Гэг прекрасно вписывался в немоту экрана. Чтобы понять, слов не нужно. Поджидающая ловушка, засада, оплошность — все сразу заметно. Зритель, как в пьесе театра гиньоль, упивается тем, что сам-то смотрит со стороны, и догадывается, что сейчас произойдет.