Генри Франкфорт - В преддверии философии. Духовные искания древнего человека
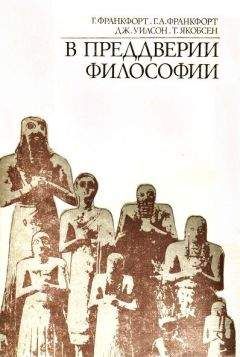
Помощь проекту
В преддверии философии. Духовные искания древнего человека читать книгу онлайн
Останавливаясь на основной концепции древней ближневосточной мысли, как мы только что сделали, мы по необходимости затемняем ее богатство и разнообразие. В пределах поля зрения мифопоэтической мысли возможно большое разнообразие позиций и взглядов, и контрасты, так же как и разнообразие, становятся очевидными, когда мы сравниваем спекулятивные мифы Египта и Месопотамии. Верно, что в этих двух странах часто олицетворялись одни и те же явления и что часто для описания их использовались одни и те же образы. Однако дух этих мифов и значение образов в высшей степени несхожи.
Например, в обеих странах считалось, что существующий мир возник из вод хаоса. В Египте первобытный океан был мужчиной — богом Нун. Другими словами, он мыслился как оплодотворяющее начало, и в этом качестве он был постоянным фактором созданной вселенной и был узнаваем и в подпочвенных водах, и в ежегодном разливе Нила. В Месопотамии оплодотворяющая сила воды олицетворялась как бог Энки, или Эа. Но с первобытным океаном он не имел ничего общего. Океан был женским существом, Тиамат, матерью, порождавшей богов и чудовищ в таком изобилии, что ее безграничная плодоносность угрожала самому существованию вселенной. Она была убита в битве с Мардуком, сформировавшим мир из ее тела. Таким образом, и для вавилонян и для египтян вода имела значение как источник и как средство поддержания жизни. Но эти представления выражались двумя народами совершенно различным образом.
Аналогичный контраст проявляется в отношении к земле. Месопотамия почитала благотворную Великую Мать, чье плодородие проявлялось в дарах земли; дополнительную религиозную значимость она приобретала благодаря разнообразию ассоциаций. Земля рассматривалась как необходимое дополнение (и, следовательно, супруга) Ану, неба, или Энки, вод, или даже Энлиля, царственного бога грозы. С другой стороны, в Египте земля была мужчиной — Гебом, или Птахом, или Осирисом; вездесущая богиня-мать не была связана с почвой. Ее образ либо отлился в примитивном и древнем обличье коровы, либо был спроецирован на небо, которое, в качестве Нут, ежедневно порождало солнце и звезды на заре и в сумерках. Более того, мертвые вступали в ее тело, чтобы возродиться бессмертными. Постоянная забота египтян о смерти и загробной жизни не находит, однако, никакого эквивалента в Месопотамии. Напротив, смерть там понималась как почти полное разрушение личности; и основными желаниями человека были достойная жизнь и свобода от болезней, добрая репутация и пережившие его потомки; небо было не богиней, склонившейся над своими детьми, а самым недоступным из богов мужского рода.
Перечисленные нами различия не просто воспроизводят ничего не значащее разнообразие образов; они выдают глубочайший контраст между взглядами египтян и месопотамян на природу вселенной, в которой живет человек. На всем протяжении месопотамских текстов нам слышатся ноты беспокойства, выражающие, как кажется, мучительный страх, что бесчисленные и грозные силы в любой момент могут принести несчастье человеческому обществу. А боги Египта были могучими, не будучи жестокими. Природа представлялась установившимся порядком, в котором перемены были либо поверхностными и незначительными, либо представляли собой развертывание во времени того, что было предопределено изначально. Более того, царская власть в Египте гарантировала стабильность общества. Ибо, как объясняет д-р Уилсон, на троне восседал один из богов. Фараон был божеством, сыном и образом Творца. Таким образом, фараон обеспечивал гармоническое слияние природы и общества во все времена. А в Месопотамии собрание богов назначало для управления людьми простого смертного, и он мог в любой момент лишиться божественной благосклонности. Человек находился во власти решений, ни повлиять на которые, ни оценить которые он был не в состоянии. Поэтому царь и его советники следили за небесными и земными предзнаменованиями, могущими открыть изменение божественной милости, с тем, чтобы предугадать и по возможности предотвратить катастрофу. В Египте же ни астрология, ни пророчества не были сколько-нибудь заметно развиты.
Различия в характере этих двух стран ярко отразились в их мифах о творении. В Египте творение рассматривалось как выдающийся акт всемогущего Творца, упорядочившего послушные элементы. Общество составляло неизменную часть созданного им прочного порядка. В Месопотамии Творец был избран собранием богов, беспомощных перед угрозой сил хаоса. Их защитник, Мардук, одержал победу над своими противниками, создав вселенную. Похоже было, что он, хотя и поздно, но спохватился; и человек был специально предназначен для служения богам. В человеческой жизни не было ничего постоянного. Каждый раз в день Нового года боги собирались, чтобы «установить судьбы» человечества по своему вкусу.
Различия между мировоззрениями египтян и месопотамян чрезвычайно глубоки. И в то же время оба народа сходились в основополагающих убеждениях, а именно в том, что личность— часть общества, что общество включено в природу, а природа — лишь проявление божественного. Этот взгляд фактически разделялся всеми древними народами, за исключением одних лишь древних евреев.
* * *Древние евреи появились на исторической сцене поздно и поселились в стране, проникнутой влияниями двух выдающихся соседних культур. Можно было ожидать, что новоприбывшие ассимилируют чужой образ мысли, поддерживаемый столь громадным престижем. Бесчисленные пришельцы из пустынь и с гор в прошлом так и поступали, и многие отдельные иудеи действительно приспособились к образу мысли неевреев. Но ассимиляция была не характерна для древнееврейской мысли. Напротив, она с поразительным упорством и надменностью противостояла мудрости соседей Израиля. Можно проследить влияние египетских и месопотамских верований во многих эпизодах Ветхого завета, однако этот документ оставляет непреодолимое впечатление оригинального, а не заимствованного.
Основным догматом древнееврейской мысли является абсолютная трансцендентность Бога. Яхве не присутствует в природе. Ни земля, ни солнце, ни небеса не божественны; даже самые мощные явления природы — лишь отражения Божьего величия. Бога невозможно даже назвать по имени:
И сказал Моисей Богу: вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что оказать мне им?
Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий (Иегова) послал меня к нам (Исход, 3, 13–14).
Бог древних евреев — чистая сущность, безусловная, невыразимая. Он свят. Это означает, что Он — sui generis[18]. Это не значит, что Он табу или что Он — сила. Это означает, что все ценности в конечном счете — качества одного лишь Бога. Следовательно, все конкретные явления обесценены. Может быть, в древнееврейской мысли человек и природа не обязательно испорченны. Но они по необходимости лишены ценности перед лицом Бога. Как Элифаз говорит Иову:
…Человек ли пред Богом прав,
перед Творцом своим чист ли муж?
Вот, не верит Он и Слугам Своим,
и в Ангелах обличает порок.
Что сказать о тех, чей дом
из глины и стоит на пыли? (Иов, IV, 17-19а)
[Пер. С. Аверинцева].
Аналогичный смысл заключен в словах Исайи (Исайя, 64, 6): «Все мы сделались — как нечистый, и вся праведность наша — как запачканная одежда». Даже праведность человека, высшая его добродетель, обесценивается в сравнении с абсолютом.
В области материальной, культуры такая концепция Бога ведет к иконоборству; и необходимо усилие воображения, чтобы осознать всю сокрушительную дерзость этого презрения к изображениям во времена древних евреев и в конкретной исторической обстановке. Повсеместно религиозный пыл не только вдохновлял на стихосложение и ритуальные действия, но также искал и пластического, и живописного выражения. Однако древние евреи отрицали уместность «кумиров»; беспредельное не могло иметь формы; безусловное могло оскорбиться изображением, с каким бы искусством и преданностью оно ни было исполнено. Любая конечная реальность обращалась в ничтожество перед абсолютной ценностью, которую являл собой Бог.
Можно лучше всего проиллюстрировать глубочайшее различие между древнееврейским и обычным ближневосточным мировоззрениями на примере того, как трактуется одна и та же тема: непрочность социального порядка. Мы располагаем несколькими египетскими текстами, рассказывающими о периоде социального переворота, последовавшем за великой эрой строителей пирамид. Разрушение установленного порядка вызывало ужас. Неферти говорил: «В бедствии и горе вижу страну: слабый превратится в могучего… подчиненный станет начальником… Поселится богатый на кладбище, и бедняк заберет достояние его…»1

























