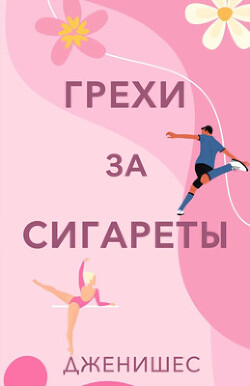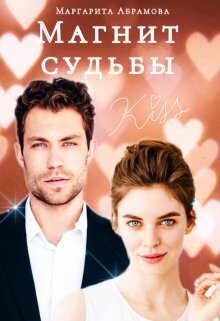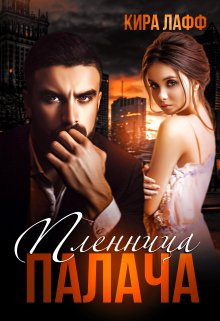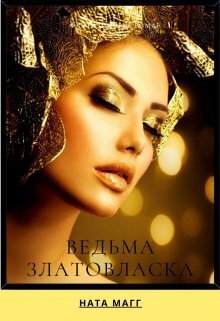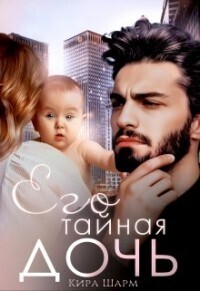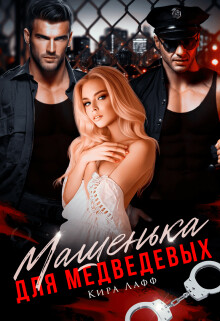Сергей Аверинцев - Риторика и истоки европейской литературной традиции

Помощь проекту
Риторика и истоки европейской литературной традиции читать книгу онлайн
«Геродот Галикарнассец написал эти разыскания, дабы дела людей не позабылись от времени и дабы не потеряли своей славы великие и удивительные подвиги, совершенные как эллинами, так и варварами, в особенности же то, почему они начали воевать между собой...»
«Фукидид Афинянин написал историю войны между пелопоннесцами и афинянами, как они вели ее друг против друга; приступил же он к труду своему тотчас же после начала войны в той уверенности, что война эта будет войною важною и самою достопримечательною из всех предшествовавших...»
Как по достоинству оценить, какими словами охарактеризовать всю смысловую весомость этого «жеста» изготовки к долгому рассказу — жеста, в котором рассказчик принимает на себя индивидуальную ответственность за все, что имеет сказать, и постольку обязан обосновать особыми доводами важность своей темы и правомерность своего к ней подхода? Мы сказали: изготовки к долгому рассказу. Ибо внутренний ритм вступления не безразличен к объему открываемого вступлением текста, он уже предполагает этот объем заранее данным, как замкнутую пластическую величину с четкими контурами, не могущую сжаться или растечься в нарушение своей меры (совершенно так же, как высота пьедестала предполагает строго определенные размеры статуи). Как известно, греки в своей литературной теории[48] и литературной практике[49] сумели с полной ясностью осознать эстетическое воздействие фактора объема, и это живое ощущение наперед заданной меры живет уже в первых словах текста, если они обдуманы, рассчитаны, тщательно подобраны, как у греков. Зачин, четко проводя границу вещи в ее начале, постулирует столь же четкую границу в конце. Античное литературное произведение в отличие от ближневосточного в принципе не может ни быть произвольно продолжено, ни оборваться на подразумеваемом «и так далее в том же роде...» (разве не так обрываются книги пророков?). «Из песни слова не выбросишь» — это знали все народы; но только греки стали слагать такие песни, к которым ни слова нельзя добавить. Мы снова возвращаемся к феномену замкнутости «Эдипа-царя» и «Пира», к которым, как было сказано, никакие Девтеро-Софокл и Девтеро-Платон не могли бы присовокупить сколь-ко-нибудь органично срастающихся дополнений. Итак, лишь позиция личного авторства делает возможным словесный «жест» пройми она, который, в свою очередь, предполагает пластическую замкнутость текста, между тем как последняя по-настоящему обеспечивает права авторства, сообщая им объективно-предметный характер, — и все в целом непреложно вытекает из античной концепции атомарного индивидуума-«характера». Ближний Восток, не знавший этой концепции, вполне закономерно не знал и ее литературных импликаций.
То же самое относится и ко второму следствию специфически эллинского способа подходить к бытию. Если человек есть «индивидуум», создавший дистанцию между собой и миром и через это получивший способность видеть вещи, людей и самого себя «со стороны», если благороднейшее занятие человека — отрешенное, внеситуативное и бескорыстное созерцание, рассматривание, наблюдение всего, что предлежит его физическому и духовному взору[50], в таком случае, очевидно, существеннейшей частью словесного искусства необходимо признать пластически-объективирующее описание, «экфрасис». Из трех основных категорий, под которые так или иначе подпадает все, что пишется, — поучение, повествование, описание, — только описание специфично для «художественной» литературы как таковой, между тем как поучение и повествование в такой же мере присущи «нехудожественной» словесности. Поучение устремлено к утилитарному воздействию, повествование спешит к исходу рассказываемых событий, и только описание довлеет себе и покоится в себе; оно «бескорыстно». Поэтому именно оно оказывается конститутивным критерием для литературной культуры греческого типа; недаром и в наше время профаны, не посвященные в таинства этой культуры (например, дети и подростки), распознаются по одному безошибочному признаку — они следят только за фабулой (т. е. за повествованием) и пропускают описания. До этих профанов еще не успела дойти та переоценка ценностей, которую осуществили греки, выдвинув на передний план описание. Это принципиальное изменение в самом составе словесного искусства поразительным образом совпадает для нас с начальной порой греческой культуры. Уже Гомер проявляет невероятную щедрость на описания, никак не провоцируемые ходом фабулы. Положим, ему нужно сказать, что костров на поле было столько, сколько звезд на небе, — сравнение, которое было бы обычным в эпосе любого народа; но вот что он из этого делает:
...Словно как на небе звезды вкруг месяца ясного сонмом Яркие блескомявляются, ежели воздух безветрен;
Все кругом открывается — холмы, высокие скалы,
Долы; небесный эфир разверзается весь беспредельный;
Видны все звезды; и пастырь, дивуясь, душой веселится...
( «Илиада», VIII, 555—559; пер. Н. И. Гнедича)
Великолепная картинка звездного неба с ликованием пастуха в придачу нисколько не нужна для рассказа о троянском войске. О Гомере можно сказать то, что О. Мандельштам говорил о Данте: «Сила дан-товского сравнения — как это ни странно — прямо пропорциональна возможности без него обойтись. Оно никогда не диктуется нищенской логической необходимостью»[51]. Это свойство поэтики Гомера бесполезно объяснять законами эпического стиля хотя бы потому, что ни в поэме о Гильгамеше, ни в «Махабхарате», ни в нордическом эпосе, ни в «Песни о Роланде», ни в «Песни о Нибелунгах» нет ничего подобного. «Эпическое раздолье» Гомера на деле не эпично, т. е. не повествовательно, ибо знаменует как раз преодоление описания через повествование; рассказ останавливается, рассказчик и читатель на время выходят из его потока, чтобы в незаинтересованном созерцании статичной картины пережить свою внеситуативность. Дело не в том, что гомеровские сравнения «развернутые» (что довольно обычно для поэтики фольклорного типа), а в том, что они мгновенно принуждают к позиции внутренней отстраненности и созерцательности. Положим, речь идет о бое троян и ахеян; мы можем быть взволнованы возможным исходом событий, с нетерпением ожидать, что будет дальше, но Гомер изымает нас из ситуации боя, и мы неторопливо рассматриваем предельно спокойную картину мирных трудов бедной женщины:
. ..Держались
Ровно они, как весы у жены, рукодельницы честной,
Если, держа коромысло и чаши заботно равняя,
Весит волну, чтоб детям промыслить хоть малую плату Так равновесно стояла и брань, и сражение воинств...
(«Илиада», XII, 432—436; пер. Н. И. Гнедича)
Чистое описание, словесная пластика, экфрасис в духе позднейших риторов справляют у Гомера доподлинный праздник в XVIII песне «Илиады», где изображается щит Ахилла. С Гомера для нас начинается греческая литература классической древности; кончается же она где-то во времена Юстиниана, ознам новавшие собой решительный перелом от античности к средневековью. В эуи времена жил Юлиан Египетский; вот как этот эпиграмматист описывает Филоктета, состязаясь с живописью Паррасия в наглядности образа:
...Волосы вздыбились дико; сухие повсюду свисают Космы, и стали они разных от грязи цветов.
Кожа его груба, и с виду как будто в морщинах;
Руку поранить легко, если коснешься ее.
Слезы, застывши, стоят на веках его воспаленных,
Знаком того, что без сна мук он терзанья несет.
(Пер. С. П. Кондратьева)
Стоит только вдуматься: страдание дано здесь не как жизненная ситуация страдания, составляющая, скажем, тему «Книги Иова» или многих псалмов, не как стихия боли, захватывающая и читателя, но как зрелище, как объектный предмет наблюдения, созерцаемые со стороны «характер» и «маска» страдальца. С точки зрения библейской поэтики такой подход приходится оценить, пожалуй, как недозволенное «баловство», как греховное злоупотребление инструментом слова. Для греческой литературы способность состязаться с пластическими искусствами[52] («скульптурничать», как выразился бы О. Мандельштам) есть одна из драгоценнейших ее привилегий.
Как обстоит дело с описаниями в Библии? Легче всего было бы указать на почти полное отсутствие в ней таких «экфрасисов», введение которых не было бы обусловлено чисто утилитарными нуждами повествования или культового предписания (каковы описания Ковчега Завета, Соломонова храма и т. п.). Действительно, те несколько слов, которые «I Книга Царств» посвящает внешности Давида («...и был он рыжеволос, красив и приятен на вид», см. гл. 16, ст. 12) — единственное подобие литературного портрета, которое мы находим во всей ветхозаветной литературе. Когда евангелисты не позволяют себе сказать ни единого слова о внешнем облике Иисуса, они пребывают всецело внутри библейской традиции и вступают в самый резкий конфликт с канонами греко-римского биографизма[53]. Но дело не только в этом. Как раз тогда, когда ветхозаветная поэзия дает действительно яркое описание, оно в своих глубинных эстетических основах оказывается полной противоположностью античного «зкфрасиса». Вспомним хотя бы прославленные места из «Песни песней» (характерные, кстати сказать, для всей ближневосточной эротики в целом[54]): «Шея твоя, как башня Давидова, воздвигнутая для оружий; тысяча щитов висит на ней — все щиты ратников; два сосца твои, как двойни юной серны, что пасутся между лилиями... Кудри его — виноградные ветви, черны как ворон; глаза его, как голуби у потоков вод... Пуп твой — круглая чаша, где не иссякает благоуханное вино; живот твой — ворох пшеницы, окруженный лилиями <...> Подумал я: влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, — и сосцы твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблок...» (гл. 4, ст. 4—5; гл. 5, ст. 11 — 12; гл. 7, ст. 3 и 9). В этом мире стан красавицы не просто «подобен» пальме, но одновременно есть ствол пальмы, по которому можно лезть вверх, а сосцы ее груди неразличимо перепутались с виноградными гроздьями. Пусть кто хочет попробует наглядно представить себе каждого из славословимых партнеров сакрального брака, вычитать из стихов «Песни песней» пластическую характеристику, наглядную «картинку»[55]; ему придется испытать полную безнадежность этого предприятия. Слова древнееврейского поэта дают не замкнутую пластику, а разомкнутую динамику, не форму, а порыв, не расчлененность, а слиянность, не изображение, а выражение, не четкую картину, а проникновенную интонацию. Иначе говоря, это радикальное отрицание греческой поэтики экфрасиса[56]. Для сравнения вспомним, что и Гомер однажды работал с этими же самыми извечно средиземноморскими мотивами «священного брака» (Ιερός Γάμος), животворящего мир трав и цветов; но что он сделал из этих мотивов!