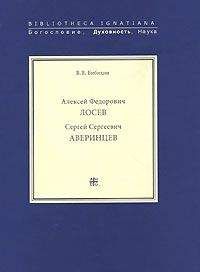Сергей Аверинцев - Эволюция философской мысли

Помощь проекту
Эволюция философской мысли читать книгу онлайн
Каким бы двойственным ни было отношение христианских масс к своей элите, они не переставали чрезвычайно живо интересоваться догматикой, которую формулировала для них элита, вкладывая в эти формулировки какие-то собственные ассоциации (логику которых подчас трудно реконструировать). С точки зрения элиты, интерес христианских масс к теоретико-богословским вопросам был даже чересчур велик, опасно велик, и ему неплохо бы поставить пределы. Воззрения элиты выражены в известной жалобе Григория Нисского на то, что невозможно стало купить хлеба пли искупаться в банях, не услышав от булочника или банщика рацеи о соотношении ипостасей Отца и Сына[83]. У языческих неоплатоников мы такой жалобы не встретим. Булочник или банщик едва ли часто досаждал им, толкуя вкривь и вкось о переходе от Единого к Уму. Язычники из низов не проявляли ни малейшего интереса к метафизико-теологическим проблемам и материям; это не входило в их навыки религиозного поведения. Они довольствовались привычной обрядностью и попросту ничего не знали о различии между "сообщимым" и "несообщимым", между "Умом мыслимым" и "Умом мыслящим". Бормоча молитву языческим богам (и стараясь, чтобы его не застал за этим проходящий монах), крестьянин-язычник не думал о том. что божественный Прокл разделил молитвы на "демиургические", "катартические", "зоопиические" и "телесиургические", да еще строго предостерег против смешения этих видов[84]. Ему, в отличие от христианского простолюдина, никто не внушил, что он обязан интересоваться подобными вещами. Впрочем, что говорить о простых людях, если такой столп языческой элиты времен Юлиана, как Ливаний, будучи носителем не философской, а литераторско-риторической культуры, ничего и знать не хотел о неоплатонической доктрине! Чтобы оценить контраст, достаточно на мгновение представить себе вещь невозможную: чтобы какой-нибудь христианский коллега и соперник Ливания, т.е. блестящий столичный проповедник вроде Иоанна Златоуста, полностью игнорировал основы тринитарной догматики. Ему бы никто этого не позволил – но он бы и сам себе этого не позволил. Случай Ливания (конечно, далеко не единственный) показывает, что публикой неоплатоников был даже не весь хрупкий мирок языческой элиты. Публикой неоплатоников были сами неоплатоники, и притом не только по воле истории, но и по собственной воле.
Здесь есть один момент, которому не так легко отдать должное. В упомянутой жалобе Григория Нисского курьезно переходят друг в друга две разные, даже взаимоисключающие эмоции: досада интеллектуала-платоника, который полагает, что булочник и банщик – невежды, и тревога епископа, который обеспокоен тем, что они – еретики. Интеллектуал может отмахиваться от того, что происходит в головах профанов, но епископ не может. Булочнику и банщику от этого, мягко говоря, не всегда легче, но это другой вопрос. Их можно переубеждать, можно – и чем дальше, тем больше – подвергать мерам принуждения; нельзя оставить их за воротами, исключить из идейной жизни. Механизмы, действовавшие внутри "вертикальной" структуры церкви, приводили к тому, что человек элиты и человек массы принуждены были нечто требовать друг от друга и нечто давать друг другу. Интеллектуальная свобода того и другого была этим чувствительно ограничена, а противоречия между ними отнюдь не примирены. И все-таки несправедливо видеть в случившемся только регресс. Оба должны были принять друг друга всерьез и уже не могли попросту пройти друг мимо друга, как проходил неоплатоник мимо непосвященных. Человек массы получал от человека элиты некоторую возможность заглянуть за пределы своего будничного кругозора, человек элиты учился у человека массы той способности к надежде, секретом которой всегда владели неимущие. По крайней мере, так бывало в лучших случаях – например в случае Иоанна Златоуста и его слушателей, антиохийских и особенно константинопольских.
Конечно, философствование христианских мыслителей подвергалось в головах вышеупомянутых булочника и банщика основательной вульгаризации[85] – иначе и быть не могло. Философствование языческих неоплатоников такой вульгаризации избежало, иначе говоря, оно избежало выхода за пределы узкого круга. Вульгаризовалась, находя житейские "заземления", только теургическая сторона неоплатонизма, давшая теоретическую базу суевериям на века вперед, вплоть до эпохи Возрождения[86] и далее, но как раз она имела менее всего касательства к истории философии, да и вообще к истории мысли.
Центральная задача эпохи, так и не поставленная языческим неоплатонизмом, никак не могла быть обойдена неоплатонизмом христианским. Дело было в том, чтобы истолковать философию духовной иерархии как мистическое осмысление человеческого сообщества, будь то церковь или сакральная держава, найти для онтологии историософский или, так сказать, социософский смысл. Любопытно, что в этом пункте языческие последователи Платона были менее верны своему учителю, нежели христианские. Историзму Платон был чужд, но социософию автор "Государства" и "Законов" сделал средоточием своей умственной работы. По примеру Платона даже Плотин мечтал об основании города философов Платонополиса (в Кампании)[87], но из этого, несмотря на покровительство императора Галлиена, ничего не вышло и выйти не могло. Совсем иными людьми были христианские епископы, сочетавшие мистическое умозрение с такой энергией практического жизненного действия, которая по своей интенсивности заставляет вспомнить давно минувшие дни классического полиса, хотя по своей направленности имеет с той эпохой мало общего.
В ведущих умах христианства пробуждается воля к устроению жизни, бросавшая некогда Платона в его сицилийские авантюры. Это уже не книжные мечтания Плотина, не атмосфера самозамкнутого микросоциума около Прокла. Вспомним, какие человеческие судьбы стоят за панорамой патристического философствования. Для времени характерен Афанасий Александрийский (295-373), пять раз уходивший в ссылку, причем во время одной из них годы подряд противозаконно укрываемый своими египетскими приверженцами; или Василий Кесарийский (ок. 330-379), великолепный организатор, проявивший свои способности и в масштабах города Кесарии, где совершенно оттеснил на задний план муниципальные инстанции, и в масштабах общеимперской церковно-политической борьбы, сплотив вокруг себя антиарианские силы, импонируя своим союзникам и врагам целеустремленностью и отчетливым чувством реальности; или Иоанн Златоуст (ок. 350-407), популярный проповедник в Антиохии, трактовавший о самых острых и актуальных предметах злобы дня (гомилии "О статуях")[88], затем патриарх в Константинополе, споривший с сильными мира сего, низложенный и сосланный, возвращенный под угрозой народных волнений, затем снова сосланный; или, двумя с половиной веками позднее, Максим Исповедник (ок. 580-662), служивший в молодости первым секретарем императора Ираклия, затем ушедший в монахи и в конце концов подвергнутый за свои теологические взгляды урезанию языка и правой руки и ссылке. Перед нами, во всяком случае, люди дела. Этим определяется очень специфический жизненный контекст их умственной деятельности.
Традиция христианского платонизма (который лишь постепенно расставался со стоической окраской, присущей "среднему" платонизму, и накапливал черты, характерные для неоплатонической стадии) шла от Оригена и от его последователей, а отчасти, как ни парадоксально, от его оппонентов, – т.е. все же от людей со схожим кругом интересов, находившихся в том же умственном "пространстве" и по-своему живо реагировавших на его сочинения[89]. Во второй половине IV в., по прошествии столетия со времени смерти Оригена, магистральный путь христианско-платонической традиции в грекоязычном ареале проходит через творчество так называемого каппадокийского кружка (от названия малоазийской земли Каппадокии), где традиция эта впервые приобретает вполне ортодоксальный характер: принципиальная установка Оригена на приятие наследия античного идеализма принимается, но очищается от одиозных с точки зрения строгой церковности сопутствующих моментов.
Главой кружка был только что упомянутый Василий Кесарийский, или Великий. В кружок входили: ближайший друг Василия со времен учения в Афинах Григорий Назианзин, или Богослов, младший брат Василия Григорий Нисский и другие церковные писатели и мыслители. По своему социальному и культурному облику эти люди обнаруживают достаточно сходства с властителями дум современного им язычества. Это тщательно образованные, искушенные в философской и риторической премудрости отпрыски состоятельных семей, привыкшие к авторитету и уважению, признанная интеллектуальная элита Каппадокии – захолустья, где навыки классической культуры были редкостью. Характерен уже упоминавшийся факт, что Василий Кесарийский и Григорий Назианзин учились в Афинах одновременно с будущим императором Юлианом, – сколь бы противоположным ни был идейный выбор обоих каппадокийцев, с одной стороны, и "Апостата" – с другой, их, так сказать, культурный багаж был в принципе одним и тем же. Характерное для языческих неоплатоников сближение религии и философии, которое сделало на исходе античности понятие φιλοσοφία сугубо аскетическим, а чисто религиозные понятия – заметно интеллектуализированными[90], в полной мере присуще и членам каппадокийского кружка. Саму христианскую веру они часто называют "наша философия" (ή καθ' ήμας φιλοσοφία), и это словоупотребление, впервые засвидетельствованное еще у церковных авторов II в.[91], приобретает у них довольно реальный смысл. В то же время к их характеристике принадлежит и то, что все они – епископы, "святители", люди с совершенно определенным положением в церковной иерархии (Кесарийский, Назианзин, Нисский – это прозвища не по месту рождения, а по месту епископской кафедры: епископ Кесарии, епископ Назианза или Нисы). Ученый епископ становится отныне центральной фигурой христианской умственной жизни; а это фигура специфическая. Его личная мыслительная инициатива может быть при наличии достаточной одаренности весьма сильной, но она неизбежно опосредована его "саном", ибо каждое его общественно значимое слово есть институциональное "поучение", обращенное к "пастве"; он говорит не просто от себя.