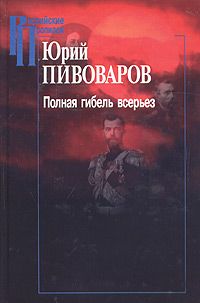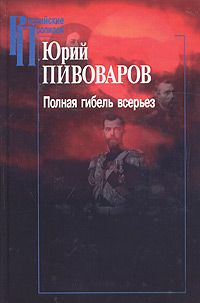Арон Гуревич - Индивид и социум на средневековом Западе
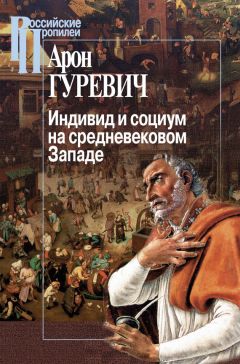
Помощь проекту
Индивид и социум на средневековом Западе читать книгу онлайн
Здесь нет необходимости останавливаться на вопросе о том, в какой мере был своеобразен аграрный строй средневековой Англии и насколько убедительно удалось Макфарлену обосновать выдвигаемые им тезисы. Идея исключительности англичан в изученный им период внушает определенные сомнения. Но сама попытка подхода Макфарлена к проблеме индивидуализма в Средние века в контексте анализа имущественных и социально-правовых условий (а не в плане рассмотрения феноменов одной только духовной жизни) безусловно заслуживает внимания.
Что касается работ собственно историков, созданных в русле исторической антропологии, то здесь, надо признаться, изучение личности остается пока, как кажется, наиболее слабо разработанным сюжетом. Задача состоит, видимо, в том, чтобы, не растворяя индивидуальность и неповторимость личности того же Абеляра, как и любого другого средневекового мыслителя, в коллективной ментальности, «возвратить» их в тот духовный универсум, к которому они принадлежали. Но что это значит? По-видимому, прежде всего – не вырывать процесс обособления личности из тех социальных трансформаций, которые происходили на Западе в Средние века, увидеть самоосознание индивидов в контексте общественных групп, в которые они входили[20]. «Средневековый индивид» – это ведь недопустимо широкая абстракция. Реальное содержание ей может придать только такой анализ, который всерьез принимает в расчет место данного индивида в социальном организме. Конечно, религия и культура создавали общую атмосферу, определявшую пределы, в которых могла обнаружить себя индивидуальность[21], но свои конкретные очертания последняя обретала в группе.
Именно так ставится вопрос в коллективном труде «Человек Средневековья»[22]. Задача этого начинания, вдохновленного Ж. Ле Гоффом, заключалась в том, чтобы описать и объяснить средневекового человека в свете реальностей экономической, общественной, ментальной жизни. Десять историков, участвующих в упомянутом труде, рисуют различные профили людей изучаемой эпохи. Они рассматривают средневекового человека в его многочисленных социальных ролях и обликах: монаха, рыцаря, крестьянина, горожанина, интеллектуала, художника, купца, святого, маргинала; отдельный очерк посвящен женщине. Тем самым абстракция «человек Средневековья» наполняется конкретным содержанием. Только после того, как его увидели в самых разных ипостасях, в его социальной и интеллектуальной определенности и эволюционирующим на протяжении XI–XV столетий, можно отважиться на некоторые обобщения, характеризующие «средневекового человека» как такового, что и делает Ле Гофф во введении к тому.
Ле Гофф указывает на то, что в истории было немного эпох, которые сильнее осознавали бы универсальное и вечное существование «модели человека», нежели западнохристианское Средневековье. Эта «модель» была религиозно осмыслена и находила свое наивысшее выражение и обобщение в теологии. Следовательно, необходимо уяснить себе, каков был человек согласно средневековой антропологии. Ле Гофф отмечает, что пессимистический взгляд на человеческую природу, который преобладал в ранний период Средних веков, питаясь сознанием изначальной греховности и ничтожности человека пред Богом, сменился затем более оптимистической оценкой, проистекавшей из идеи создания его по образу и подобию Творца и его способности продолжить на земле процесс творения и спасти собственную душу.
Ле Гофф подчеркивает процесс изменения трактовки человека на протяжении Средневековья, в конечном итоге обусловленный сдвигами в его социальной жизни. Вместе с тем существовали константные концепции человека: «человека-странника» (homo viator) – странника и в прямом и в переносном (спиритуальном) смыслах – и человека кающегося, испытывающего душевное сокрушение. Земное существование осознавалось как путь, который в конечном итоге ведет к Богу; в реальной жизни образ странничества воплощался в паломничестве и крестоносном движении[23]. Идея покаяния была связана с организацией внутреннего опыта и его исследованием, самоанализом – исповедью. Эта идея действительно вводит нас в самое существо проблемы средневековой личности.
Ле Гофф выделяет некоторые характерные черты психологии людей Средневековья: признаки их «одержимости»; их сознание человеческой греховности; особенности восприятия зримого и невидимого в их единстве и переплетении; веру в потусторонний мир, в чудеса и силу ордалий; особенности памяти, присущие людям, которые жили в условиях преобладания устной культуры; символизм мышления (средневековый человек – «усердный дешифровщик»[24]); «зачарованность» числом, которое долго, до XIII века, воспринималось символически; столь же символическое переживание цвета и образа; веру в сны и видения; чувство иерархии, роль авторитета и власти и вместе с тем склонность к мятежу; вольность, свободу и привилегию – как центральные моменты системы социальных ценностей.
Изменения в структуре личности на протяжении изучаемого периода, пишет Ле Гофф, могут быть прослежены как в переходе от анонимности к личному авторству в литературе и искусстве[25], так и в эволюции образа святого, который спиритуализуется и индивидуализируется: не дар творить чудеса и социальная функция святого, но его жизнь – imitatio Christi – выдвигается во главу угла[26]. Человек менялся на протяжении столетий, поскольку изменялся общественный строй, специализировались социальные функции и нравственные ценности «спустились с небес на землю»[27].
Наиболее радикально против все еще господствующих традиций в изучении личности на средневековом Западе выступил Ж.-К. Шмитт. Он вынес суровый приговор концепции «открытия индивидуальности», назвав ее «фикцией»[28].
Шмитт склонен выделять три аспекта рассматриваемой проблемы, каждый из которых он связывает с определенными терминами, а именно «индивид», «субъект» и «персона». Примером средневекового индивида он считает, например, рыцаря, стремящегося выделиться в пределах своей социальной группы личными доблестями и подвигами. Но, по мнению Шмитта, рыцаря нельзя назвать субъектом, способным к самоуглублению, – в противоположность монаху. Последний, хотя и подчеркивает свою принадлежность к ордену, склонен к рефлексии и интроспекции, а потому может быть назван субъектом. Что касается понятия «персона», то оно прилагалось прежде всего к ипостасям Святой Троицы. Вместе с тем это понятие предполагало единство души и тела, присущее человеку как существу, созданному по образу Бога. Наряду с этим Шмитт выделяет в латинских источниках те многочисленные случаи, когда термином «persona» обозначается явившийся с того света призрак («некто»)[29].
С предлагаемыми Шмиттом дефинициями в целом можно было бы согласиться, однако ниже я постараюсь показать, что понятие «persona» пережило в изучаемую эпоху более серьезные трансформации.
Историки, пытающиеся реконструировать облик средневековой индивидуальности, прежде всего, стоят перед источниковедческой трудностью: в какой мере изучаемые ими памятники, преимущественно нарративные, правдиво запечатлели облик выдающейся личности, о которой они рассказывают? Мы вновь возвращаемся к вопросу о степени «прозрачности» текстов той эпохи, как правило, изобилующих риторическими клише и формулами, которые восходят к общему понятийному фонду. В монографии «Гийом Марешаль, лучший в мире рыцарь» Жорж Дюби[30] стремится представить читателю жизнеописание английского аристократа XII – начала XIII века. Это жизнеописание содержится в длинной поэме, сочиненной неким трувером по имени Жан (ближе он нам не известен) около середины XIII века. Если верить поэту, он входил в окружение Гийома и мог почерпнуть из бесед с ним сведения о его жизни и подвигах. Но это обстоятельство едва ли может служить достаточной гарантией биографической достоверности. Время смерти героя поэмы (1219 г.) отделено от времени ее сочинения несколькими десятилетиями. Но даже не это главное: хотя автор и сообщает немало сведений о жизненных перипетиях Гийома, и не только о его славных деяниях, но и о длительной опале, которой он подвергся при одном из пяти английских королей, сменившихся на престоле на протяжении его долгой жизни, общая установка поэта, по-видимому, резюмируется в прозвище, заслуженном Гийомом, – «лучший в мире рыцарь». Иными словами, в центре внимания этого сочинения – прославление доблестей Гийома, вследствие чего идеализированный образ шевалье оттесняет и скрывает его индивидуальный характер.
К сожалению, критический анализ текста поэмы, который показал бы степень его достоверности, в данном случае мало занимает выдающегося французского медиевиста (в отличие от других его трудов, в которых оценке познавательных возможностей источника уделено гораздо больше внимания). Дюби задает себе и читателю не лишенный риторичности вопрос: не представляет ли собой эта поэма автобиографию либо воспоминания, подобные мемуарам Гвибера Ножанского и Абеляра? Дюби оставляет этот вопрос без ответа, но, как кажется, не исключает подобного сближения светского поэтического варианта биографии рыцаря с исповедью, которая чаще выходила из-под пера монахов XII века, в свою очередь, следовавших по стопам Августина[31]. На мой взгляд, между поэмой о Гийоме Марешале и исповедями Абеляра и Гвибера Ножанского по существу нет ничего общего. Попытки Гвибера и Абеляра поведать о собственной жизни и о своих душевных переживаниях далеко отстоят от воспевания доблестей английского аристократа, внутренний мир которого остается вне поля зрения поэта.