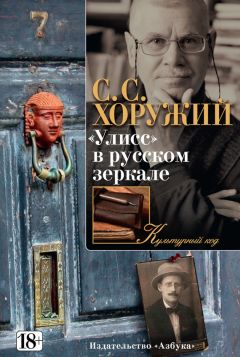Сергей Хоружий - «Духовная практика» и «отверазние чувств» как феномены энергийной антропологии. Компаративный анализ

Помощь проекту
«Духовная практика» и «отверазние чувств» как феномены энергийной антропологии. Компаративный анализ читать книгу онлайн
Слияние всего перечисленного в нераздельном единстве мистериального действа дает основание говорить о несомненной тенденции мистерии к синтезу перцепций. Особенно сильна и наглядна эта тенденция в орфическом русле, где к ней изначально склоняет и ведет уже сам образ-архетип мифического Орфея – героя, кому дано приводить в гармонию, согласный лад все стихии природы и человека.
7-2. Мистериальный опыт
Тенденции и интуиции перцептивного синтеза, имплицитно заложенные в мистериальном опыте, через века эксплицирует в опыте философском Плотин. Таково же и в целом соотношение неоплатонической рефлексии с мистериальной религиозностью. Однако, разделяя, воспринимая позиции этой религиозности в их общей основе (а равно и в проблеме перцепций), неоплатонизм не просто находил их философское выражение; он также и развивал их, внося новые мотивы и акценты. Для нас интересно, что в этом развитии вполне отчетливо, и отчасти по-новому, были расставлены все точки над i в отношениях с той антропологической и религиозной стратегией, которую мы обозначили как "парадигма духовной практики". В двух (по меньшей мере) моментах можно усмотреть большее приближение к этой парадигме. У Ямвлиха в концепции теургии заметно выдвинут элемент деятельно-систематичной религиозной стратегии. Отсюда возникает идея важности методической молитвенной практики – а также и связи такой практики с отверзанием чувств. "Пребывание в молитвах в течение длительного времени питает наш ум, делает восприятие нашей душой богов во много крат более сильным, открывает для людей божественные предметы, вырабатывает у них привычку к вспышкам света, постепенно совершенствует наши органы для соприкосновения с богами, до тех пор пока не возведет нас на самую вершину" [62]. Здесь, как видим, молитва выступает как движитель духовного восхождения, продвижения духовного процесса, чего отнюдь не было в мистериях и что весьма созвучно парадигме духовной практики. Далее, простой архаический вариант символической онтологии как двуединого мира живых и мертвых, неоплатонизм заменяет иерархической и эманативной онтологией, в сложном устройстве которой нам сейчас лишь важно наличие высоко вознесенной вершины, Единого. Наличие этого источника и начала бытия, который не может не выступать как искомое, предмет устремлений в духовном процессе, означает существенное сближение с онтологической моделью, типично предполагаемой в парадигме духовной практики. Сам же духовный процесс также весьма сближается с этою парадигмой: если в мистериях он мыслился лишь как наглядно-опытное обретение смысла, обретение опытности в целокупном двумирном бытии, то в неоплатонизме (как, впрочем, уже и у Платона) он предстает класическим образом, как путь воссоединения с источником бытия.
Но, наряду с этими сближениями, неоплатонизм ставит и одну резкую грань, полагающую предел и барьер всем сближениям вообще. Это – пресловутая дуалистическая антропология, что утверждает диаметральную разноприродность, противопоставленность души и тела, их противоположную бытийную ценность и судьбу; и, вследствие этого, целиком исключает телесное начало из духовного процесса, рисуя последний как отсечение, отбрасывание оков плоти и материи. Идущий от орфиков (с их знаменитой максимой swma - shma), этот тип антропологии достигает у неоплатоников радикальной четкости [63], и печать его весьма сказывается на трактовке занимающих нас тем. Возьмем одно из многих мест в "Эннеадах", говорящих о высшем жребии человека, постижении Единого. "Тому, кто желает философствовать о Первоедином, следует держаться вот какого пути: так как тут ... предметом искания служит первое начало всех вещей, благо, то желающий достигнуть и постигнуть его, понятно, не должен отдаляться от высшего порядка вещей и ниспадать в низший; напротив, всецело отрешаясь от самого низшего порядка чувственных вещей, он должен направить ум свой к тому, что занимает высшее первое место ... чтобы стать созерцателем того, что есть начало и единое, ему следует ... ставши всецело умом, вверивши всецело уму душу свою и утвердивши ее в нем ... созерцать Первоединого только умственными очами, не пользуясь для этого ни одним из внешних чувств, не допуская в это созерцание никаких чувственных представлений, [он] должен созерцать чистейшее существо лишь одним чистым умом, самою высшей частью ума" [64]. – То, что описывается здесь, соответствует, по Плотину, реализации назначения человека; и эта реализация предстает как путь, на котором стремятся "достигнуть и постигнуть" Первоединого – источник и вершину ступенчатой иерархии бытия. Перед нами – путь восхождения, причем прохождение этого пути требует всецелого сосредоточения, зорких и последовательных усилий. Оно должно выстраиваться всеподчиняющим и всеконтролирующим умом (сознанием) методично и постадийно, соответственно ступенчатому строению умопостигаемой реальности. "Знание о Благе, которое должно предшествовать созерцанию ... приобретается частью путем аналогии, частью путем абстракции и негации, частью путем рассмотрения того, что происходит [от Блага как своей причины], а, главным образом, путем методического восхождения по неким ступеням. Ступени эти суть: очищения, молитвы, украшения [добродетелью], воспарение в мир сверхчувственный и старание всячески удержаться в нем, а затем ... угощение дарами и благами этого мира, в котором душа становится разом и созерцающею и созерцаемым, etc.etc." [65]. Как вполне ясно отсюда, у Плотина, не менее твердо, чем у Ямвлиха – хотя иначе, с гораздо меньшею ролью культово-теургических средств – реализация назначения человека в крупном, grosso modo, оказывается подобной духовной практике.
Зафиксируем этот вывод: с позиций нашего "подхода энергийной антропологии" мы находим, что неоплатонизм, греческая философия, – но, однако, не сам мистериальный культ, греческая религия! – типологически и в главных чертах, есть школа духовной практики. Но именно – в главных. В целом же, в сравнении с нашей "парадигмой духовной практики", эта школа и практикуемый ею духовный процесс обладают рядом принципиальных отличий. Все отличия имеют общий, единый корень, и это – дуалистическая антропология орфизма и платонизма. Мы выразились привычно о духовной практике, духовном процессе как "реализации назначения человека"; однако дуалистическое рассечение в неоплатонизме столь глубоко, что в неоплатоническом дискурсе собственно нет человека! Есть соединение, смешение живущего тела, животного – и души. Сам факт этого смешения есть падение и зло; Плотин же слишком непримирим ко злу и добр к человеку, чтобы отождествлять его с этим прискорбным фактом (который к тому же не окончателен, а преодолим – чему и посвящен Путь). Более пристало бы считать "человеком" – высшее и разумное в человеке: "Мы есть то, что оттуда, свыше властвует над животным. Никто не помешает назвать животным это целое; нижняя часть его смешана, а там, [в умопостигаемом], пожалуй, находится истинный человек, нижние части – как "львы" и "разные звери". Человек совпадает с разумной душой" [66], и, соответственно, выпадает из дискурса как лишнее удвоение понятий. Следующая печать дуализма – на строении онтологической иерархии: как мы видели, в этом строении телесное и чувственное – "самый низший порядок", и вся бытийная стратегия состоит в полном разрыве с ним и в уходе от него. И, конечно, та же печать – на духовном процессе, пути, который прокладывает духовная практика сквозь бытийную иерархию. Путь проходит душа, вверяя себя уму и умом становясь; и для труда восхождения души, тело – постороннее, чуждое. Можно к нему относиться без ненависти, вражды, даже без особого гнушения [67], – однако нельзя не считать его полностью посторонним высшему делу человека.
Ибо высшее дело есть полностью и всецело – дело ума. В этом – пафос неоплатонизма, и в этом же его специфическое отличие в контексте нашей темы о духовных практиках. Но что такое дело ума, если не философия? Для Плотина (ср.хотя бы текст из VI.7 выше), ступени духовного процесса суть ступени познания – и наоборот. В известном смысле, все отличительное своеобразие неоплатонизма как особого типа духовной практики можно выразить формулой: для неоплатонизма духовная практика есть философствование, и философствование есть духовная практика. Эта особенность выделяет неоплатонизм из обоих миров, сводимых им воедино. Плотин интеллектуализирует духовную практику, создает ее новый, не холистический, а интеллектуалистский тип; но, равным образом, он "практицизирует" философию [68]. В том же тексте из VI.7 это наглядно и ярко: здесь первая часть "знания о Благе" – Платоновы диалектические приемы, прямо взятые из Шестой книги "Государства" (510-511), тогда как вторая и главная часть – ступени методического восхождения, превращающие познание в "духовный процесс", – новое, его собственное добавление. Сама же философия, плод философствования о Первоедином, выступает здесь в точности так же, как выступает богословие для духовной практики исихазма: как речь непосредственного опыта высших ступеней духовного процесса, когда процесс достигает своей цели. Попутно нам уясняется и еще аспект соотношения двух традиций: "тело"и "материя" в неоплатонизме – аналог и коррелат "мира" в исихазме; это – то чуждое и мешающее, что нужно отбросить, дабы стать на Путь. Но, как мы разъясняли в "Словаре", "мир" – концепт интериоризованный, из дискурса энергии, тогда как "тело" -существенно эссенциалистский концепт. Хотя, за счет его близкой связи с "жизнью" у неоплатоников уловима и тенденция к его энергийной трактовке (ибо "всякая жизнь – деятельность (enšrgeia)" [69]), однако принижение телесности помешало ей достичь полного развития, и концепт не получил перевода в дискурс энергии. Типологический вывод тот, что, как дискурс духовной практики, неоплатонизм обладает известным несовершенством – коль скоро одно (по меньшей мере) из базовых для практики понятий сохраняет неадекватную практике метафизическую и эссенциальную трактовку.