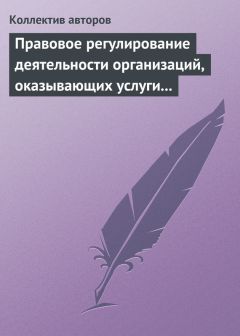Ильгам Рагимов - Философия преступления и наказания
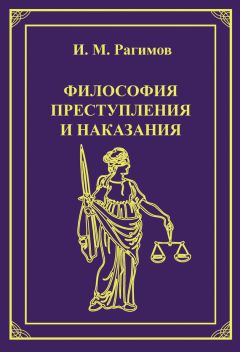
Помощь проекту
Философия преступления и наказания читать книгу онлайн
Другой, не менее важной заслугой статистики является изучение на основе статистических данных и причин противоправного деяния мотивов преступлений, хотя этими данными криминалисты почти не пользовались, в то время как именно в них можно было бы почерпнуть много полезного для правильного применения уголовного наказания в качестве не только превенции, но и репрессии.
Как видим, основная задача статистиков заключалась в том, чтобы с помощью цифровых показателей помочь в определении причин преступности и источников конкретного преступного поведения. В то же время надо иметь в виду, что статистика еще не говорит о всей совокупности условий и индивидуальных факторов, которые в результате определяют преступление. В связи с этим Б.М. Бехтерев отмечает: «Статистика вообще оперирует большими числами, а потому о частных условиях, ближе определяющих характер преступления, она не дает нам точных указаний. Только вся совокупность факторов, воздействующих на данную личность, и в том числе не только общие, но и более частные, ближайшие, определяют преступление и его характер»[72].
Как известно, Кетле провел множество исследований причин, влияющих на возникновение преступлений. Он составил замечательную таблицу, показывающую, что времена года оказывают определенное влияние на склонность к преступлению. Ученый утверждал, что статистика позволяет прогнозировать преступность на определенной территории. В частности, он пришел к заключению, что число преступлений, совершаемых ежегодно, почти не изменяется, и движение преступности, по его мнению, столь равномерно, что даже можно составить таблицу преступлений почти с такой же точностью, как и таблицу смертных случаев. Так, он пишет: «Как печально положение человеческого рода. Почти с той точностью, с какой мы определяем число рождений и смертей, мы можем предсказать, сколько лиц обагрит свои руки кровью ближних, сколько будет подделывателей и отравителей»[73]. Конечно, вряд ли можно согласиться с этим утверждением Кетле, ибо, на самом деле, предсказать с такой точностью, о которой он говорит, состояние, динамику и уровень преступности невозможно, поскольку это явление носит стихийный характер, хотя сейчас и делаются определенные прогнозы развития преступности. Неточность этого утверждения Кетле можно простить, так как в его распоряжении были статистические данные за короткий период времени. Следует также учитывать, что, будучи математиком, Кетле делал выводы именно на основе цифровых данных, то есть исследовал число преступлений и проступков вне их связи с социальными условиями жизни общества.
Исследуя физические законы, управляющие нравственным порядком, он допускал, что «средний человек» обладает определенной склонностью к преступлению, то есть индивидуум в известной мере подвержен возможности совершить преступление. Выводы, сделанные Кетле относительно влияния климата, пола, возраста на преступное поведение человека, носили примитивный характер и в последующем была доказана их сомнительность. Тем не менее заслуги статистики нельзя недооценивать. Как правильно было подмечено на Статистическом конгрессе в Лондоне в 1860 г., «уголовная статистика для законодателя то же, что карта, компас и лот для мореплавателя».
Итак, еще задолго до возникновения позитивной школы уголовного права, исследующей преступление и его причины, статистика уже занималась вопросами преступности. Однако это исследование, скорее, носило характер цифр, иероглифов, которые нужно было еще разобрать, изучить с привлечением данных других наук. Именно по этому пути и пошли как антропологи, так и социологи, а также все те, кто взялся за исследование причин преступления, в результате чего возник вопрос: совместим ли изменяющийся состав цифр с понятием свободной воли, являющейся основой классической школы уголовного права?
Отвергая основные положения классической школы относительно причин преступления, то есть свободу воли, позитивная школа начала искать эту причину в чем-нибудь другом. Антропологи стали утверждать и доказывать, что преступление есть не продукт свободной воли, а необходимый результат всей физической и духовной индивидуальности преступления. Подвергая жестокой критике классическую школу с ее свободной волей, Х.М. Чарыхов писал: «Как теоретик, так и практик имели перед собой только понятие убийства, насилия, кражи, мошенничества. И благодаря печальной теории о “свободной воле”, субъект, приведенный к преступлению, становился истинным виновником убийства, кражи, мошенничества. Но заблуждения, как и всякие ошибки, должны были быть неизбежно устранены. Падение доктрины о “свободной воле” было началом завоевания позитивного учения о преступлении»[74].
Антропологи поначалу причины преступления искали в окружающей физической природе: влияние метеорологических, климатических, термометрических, геологических и т. п. факторов. Но скоро главное внимание они сосредоточили на человеке: причины преступления стали искать в его антропологической, физиологической и психической организации. Утверждалось, что, совершая преступление, человек вкладывается в него не только своей животной (физиологической, биологической) природой, но и своей психикой, содержание которой не исчерпывается переживаниями, порождаемыми состоянием его организма. В образовании преступного поведения, по мнению антропологов, принимает участие «все то, что мы видели, слышали и т. д. Одним словом, все наши отношения к внешнему миру»[75].
Ч. Ломброзо полагал, что изучение преступления животных поможет более глубокому пониманию преступления людей, как анатомия и физиология животных помогла познанию природы человека. В самом деле, можно ли изучить преступление у животных, чтобы лучше определить преступления людей? Ломброзо, например, считал, что это возможно не только у животных, но даже у растений.
Предмет антропологии или учение о человеке – это познание его природы. Именно антропология позволила ему сделать вывод о том, что существует прямая связь наследственности и преступного поведения человека. Разве кто-нибудь в наше время может поверить в то, что преступное поведение «как таковое» передается по наследству? Думаю, что и сам Ломброзо в это не верил. Он утверждал, что всякое преступление представляет собой поворот к привычкам примитивного человека, что каждый преступник отличается телесными и душевными признаками дикаря.
Хотя антропологическая школа не сумела сконструировать понятие преступления, и поэтому ее учение как теоретическая система, в отличие от классической школы, осталось логически незавершенным, тем не менее именно антропологи совершили переход от догматического, логического изучения классиков к позитивному познанию преступления и преступника. То есть, вместо отвлеченных конструкций и абстракций понятия преступления, рассматривалось само реальное явление, в конкретном своем проявлении. В конечном счете Ч. Ломброзо пришел к выводу о том, что «преступление – явление столь же естественное и необходимое, как рождение, смерть, зачатие, психические болезни, начальной разновидностью которых оно часто является»[76].
Восполнить пробел в теоретической системе взялся его последователь Р. Гарофало, который попытался установить естественнонаучное понятие преступления и, тем самым, возвести антропологическую доктрину на уровень естественнонаучной теории преступления. Попытка оказалась неудачной. Тогда другой представитель этой теории Bahar решил сформулировать «новое определение преступления на основе биологической науки»[77]. По его мнению, стремление отнять жизнь подобного себе есть проявление наследственного инстинкта к каннибализму, общего для всех людей и животных. Этот инстинкт и толкает человека жертвовать более слабым, чем он, для нужд питания.
После того как антропологическая теория о прирожденном преступнике не получила одобрения в обществе, в особенности среди работников, осуществляющих правосудие, Э. Ферри в 1882 г. объявляет о создании новой школы, которую он назвал уголовной социологией и в которую ввел экспериментальные данные антропологии, физиопсихологии, психопатологии и уголовной статистики, а также указываемые наукой средства борьбы (путем предупреждения и репрессии) с преступностью. Цель новой школы, как объясняет сам Э. Ферри, «изучить естественный генезис преступления, как в самом преступнике, так и в той среде, в которой он живет, для того, чтобы разные причины лечить разными средствами»[78].
В итоге он приходит к следующему выводу: «Когда мы говорим о преступном типе и о прирожденном преступнике, мы под этим разумеем физиопсихическое предрасположение к преступлению, которое у некоторых индивидов может и не приводить к преступным действиям (подобно тому, как предрасположение к душевным заболеваниям может и не привести к сумасшествию), если оно сдерживается благоприятными условиями среды, но которые, как скоро эти условия становятся неблагоприятными, служат единственным позитивным объяснением антигуманной и антисоциальной деятельности преступника»[79].