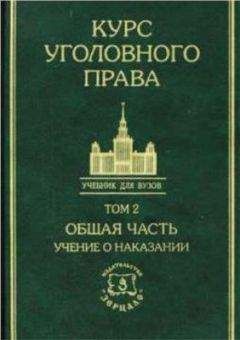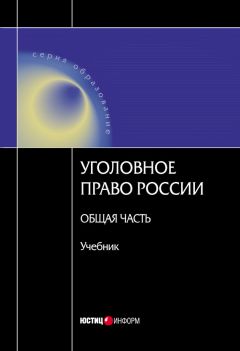Коллектив авторов - Уголовное право России. Общая часть
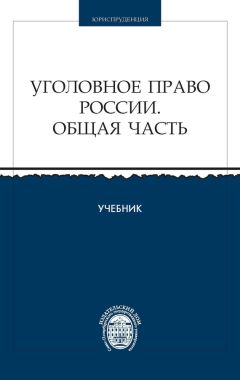
Помощь проекту
Уголовное право России. Общая часть читать книгу онлайн
Объект преступления – это общественные отношения. Только при таком понимании объекта преступления находят свое естественное место и человек, и интересы, и ценности, и правовые блага, и правопорядок.
В теории уголовного права концепция «объект – общественные отношения, охраняемые уголовным законом» сложилась, начиная с Руководящих начал по уголовному праву РСФСР 1919 г. Руководящие начала определяли преступление как «нарушение порядка общественных отношений, охраняемых уголовным законом». С тех пор такое понимание объекта преступления до недавнего времени не оспаривалось, хотя интерпретировалось разными авторами по-разному и не всегда последовательно. В основе расхождения мнений лежало стремление найти и показать содержание первоначального, простого и понятного объекта преступления в отличие от «абстрактных» общественных отношений. Так, А. А. Пионтковский хотя и утверждал, что объект – общественные отношения, подчеркивая, что такое понимание объекта тесно связано с материальным понятием преступления, но вместе с тем полагал, что непосредственным объектом преступления могут быть не сами общественные отношения, а их элементы, что непосредственный объект и есть «тот предмет, на который воздействуют».[109] В имущественных преступлениях на роль объекта предлагались вещи или материальные ценности. По мнению Е. Каиржанова, таким непосредственным объектом является даже не все имущество, а «драповое пальто, принадлежащее Иванову Ивану Ивановичу».[110] Для Н. И. Коржанского непосредственный объект преступления – «жизнь П. П. Данилова, здоровье И. С. Захарова, собственность колхоза им. Чапаева».[111] Разумеется, нарушить отношения собственности можно, похищая конкретную вещь, а нарушить неприкосновенность личности – посягая на индивидуально отдельного человека, но за этими благами и ценностями стоит общество с его порядком отношений между людьми. Преступление с его объектами, как его понимают названные авторы, сводится к нарушению отдельного, частного интереса, к локализации вреда таким образом понимаемому объекту. Этот же упрек может быть обращен к концепции, согласно которой общественным отношением, которое нарушается, признается конкретная взаимосвязь по крайней мере двух людей.[112]
Общественные отношения – массовые связи членов общества, функционирующие в масштабах общества. В конфликте с преступником они представляют общество. Поэтому чтобы ни предлагалось в качестве непосредственного объекта: индивидуальная связь, вещи, интересы конкретного лица или любые другие социальные ценности и т. п., – ничто не может служить в качестве «раскрывающего» или «уточняющего» эту категорию понятия.
Существует и иное мнение. А. В. Наумов полагает, что «во многих случаях трактовка объекта преступления как определенных общественных отношений вполне справедлива, например, в случаях признания объектом преступления отношений собственности при краже, грабеже и других хищениях имущества… Однако в ряде других случаев, теория объекта преступления как общественного отношения “не срабатывает”. Особенно это относится к преступлениям против личности, в первую очередь к убийству… Теория объекта преступления как общественных отношений, охраняемых уголовным законом, не может быть признана общей универсальной теорией. Представляется возможным возвращение к теории объекта как правового блага, созданной еще в конце прошлого века в рамках классической и социологической школ уголовного права».[113] Предлагает вернуться назад и А. В. Пашковская, по мнению которой позиция Н. С. Таганцева о правовом благе как объекте преступления «представляется наиболее верной и сохраняющей свое значение».[114] А. Н. Игнатов полагает, что «для отражения значимых в уголовном праве признаков объекта преступления разумнее использовать нейтральное понятие “правовое благо” либо “защищаемый интерес”». Понятие правового блага, по мнению автора, конкретно, «не несет в себе ложного идеологического заряда», характеризуется как объект права, обладает общественной ценностью и имеет «вещную, предметную материальную природу».[115] Наконец, следует упомянуть о своеобразной попытке решить проблему объекта преступления, предпринятой Г. П. Новоселовым. Он полагает, что объект преступления – не само общественное отношение, а лишь одна его сторона. Сторона эта – «всегда люди (отдельное лицо или группа лиц), и только они»,[116] а именно «тот, против которого направлены действия активной стороны отношения, его субъекта». Эти лица (или лицо) – обладатели ценностей (материальных или нематериальных). На ценности осуществляется преступное воздействие, «в результате чего этим лицам причиняется вред или создается угроза причинения вреда».[117]
Итак, теория объекта преступления как общественных отношений отвергается в качестве общей универсальной теории в частности потому, что якобы принижает, а то и вообще теряет человека, выдвигая вместо него некую совокупность общественных отношений, которая и образует личность. Подобного рода опасения высказывались неоднократно. По мнению одних авторов, в качестве объекта преступления, например, при убийстве, должны рассматриваться и общественные отношения, и «сам человек».[118] По мнению других, «нормами уголовного права охраняется не сам человек, а общественные отношения»,[119] т. е. жизнь человека ставится под охрану уголовного закона с позиций его социальных функций; как следствие, отрицается «абсолютная ценность» личности и утверждается оценочное отношение к личности в зависимости от ее социальной функции.[120] Наконец, нужно отметить мнение тех авторов, которые считают, что при убийстве объектом преступления выступают не общественные отношения, а «живой человек»: «Закон ставит под уголовно-правовую защиту не общественные отношения, подвергшиеся посягательству, а жизнь и здоровье человека».[121]
Для противопоставления общественных отношений и жизни человека как объекта преступления нет оснований. Каждый человек – это абсолютная ценность, или, что то же самое, правовое благо. Трудно понять, почему это понятие нейтрально, а понятие общественных отношений имеет ложный идеологический заряд. Благо оценивается, а общественные отношения, возникающие как общественно необходимые связи, были осознаны задолго до того, как они стали «социалистическими общественными отношениями».
Обращение к авторитетам прошлого в поисках действительного объекта преступления показывает, что концепция объекта преступления развивалась в отечественной науке в направлении все более четкого понимания, что преступление – не только ущемление частного интереса, посягательство на то или иное благо и т. п., но, что за конкретным преступлением стоит нечто скрытое от чувственного восприятия – общество. Автор первого учебника русского уголовного права (заметим, учебника для своего времени замечательного)
B. Д. Спасович писал: человек «не может быть выделен из общества; общество есть его естественное состояние… Внутри же общества каждый отдельный человек есть один из составных атомов общества, одна из рабочих сил в экономии общественной, один из членов общественному организму подчиненный, от него зависящий, для него действующий».[122] Поэтому, по В. Д. Спасовичу, «правонарушения затрагивают отдельные личности и целые группы в более важных их правах, при попрании коих не возможен никакой быть и порядок общественный. Это преступления общественные или уголовные».[123] И далее: «Преступление несовместимо с общественным порядком»,[124] «характеристику уголовных преступлений составляет то, что содержит в себе посягательство на целый общественный порядок, они преследуются обществом независимо от воли пострадавших от них лиц».[125] И, наконец: «Преступное деяние должно содержать в себе посягательство на известные общественные отношения».[126] Преступление и общество в целом постоянно остаются в поле зрения исследователей и тогда, когда они говорят о посягательстве на личность, ее интересы, блага, о нарушении преступлением правовых запретов.
«Государство, – писал А. Лохвицкий, – требует от человека отказа от таких деяний, которые вредят правам других, следственно ведут к анархии, распадению общества».[127] Поэтому и для него «закон под страхом наказания вообще воспрещает деяния, соединяющие два признака: безнравственность… и… опасность действия для общества».[128]
Н. С. Таганцев считал «неверным по форме и односторонним по существу» взгляд, согласно которому «преступное деяние заключается или в уничтожении чьего-либо права, или в препятствовании к использованию им, или в неисполнении чьих-либо законных требований»;[129] «посягательство на субъективное право составляет не сущность, а только средство», продолжал автор. «Жизнь общественная в индивидуальных и общественных проявлениях творит интересы и вызывает их правоохрану, в силу чего эти интересы получают особое значение и структуру, облекаются в значение юридических благ и, как таковые, дают содержание юридическим нормам и в то же время служат их жизненным проявлениям, образуя своею совокупностью жизненное проявление правопорядка».[130] Для Н. С. Таганцева объект преступления – не уголовно-правовая норма, а норма в ее реальном бытии. В каком правовом пространстве протекает это реальное бытие нормы? В масштабе общества. Что значит для нормы реальность ее бытия? В идеале – нерушимость, в реальности – соблюдение ее требований вопреки возможным нарушениям. «Реальное бытие нормы – это правоохраняемый интерес».[131] «Правоохраняемый интерес и есть реальный объект преступного деяния, без которого немыслимо самое его бытие».[132] На наш взгляд, вернуться к концепции Н. С. Таганцева – это значит не просто увидеть и назвать в качестве объектов интересы, блага и их владельцев, которые, конечно, существовали во все времена, а понять, говоря словами Н. С. Таганцева, что творит интересы общественная жизнь, что блага дают содержание юридическим нормам, что правопорядок – это норма в ее реальном бытии.