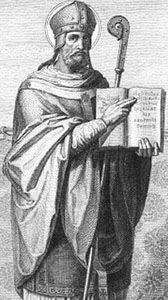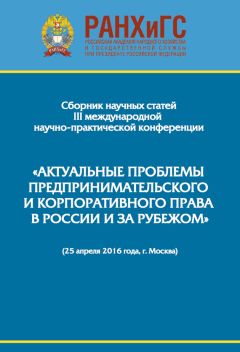Людмила Гоготишвили - Непрямое говорение
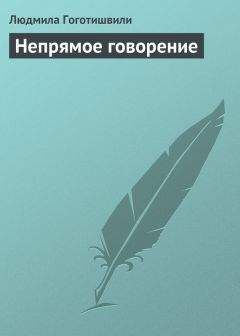
Помощь проекту
Непрямое говорение читать книгу онлайн
2. Между субъектом и предикатом (лингвистический аспект)
До сих пор мы пользовались понятиями «предикация» и «референция» без всяких дополнительных уточнений, несмотря на то, что отсутствие таковых на фоне явной акцентировки обоих терминов при обсуждении проблемы символа, несомненно, создавало в тексте ощутимое смысловое напряжение. Действительно, в обобщенно-нейтральном употреблении эти термины обычно обслуживают четко противопоставленные смысловые пространства. Лингвисты говорят, что в предложении производится, во-первых, референция к определенному денотату (или, что то же, референту), которая осуществляется посредством синтаксической позиции субъекта; и, во вторых, – предикация к этому денотату, осуществляемая посредством соответствующей предикативной синтаксической позиции. Только соединение этих принципиально разных по смыслу функций и порождает, с этой точки зрения, само предложение как реальную единицу речи и мышления. У нас же противопоставление референции и предикации часто оказывалось «смазанным». Но «оказывалось» оно таковым преднамеренно – по той причине, что переосмысление, более того, своего рода «сглаживание» предполагаемого в лингвистике принципиального функционально-смыслового противопоставления референции и предикации, отвечает, на наш взгляд, главной тенденции ивановской мысли, что и станет основной темой предлагаемой ниже уже собственно лингвистической интерпретации ивановского типа символизма.
Второй – непосредственно связанной с первой и тоже прямо касающейся проблемы символа – парой терминов, отношения между которыми сознательно обострялись в настоящем тексте, являются «референция» и «именование». Собственно, статья достигнет своей цели, если удастся – хотя бы предварительно – лингвистически связать все эти традиционно иначе соотносимые категории таким образом, чтобы отразить тем самым специфику ивановской позиции.
Если, как это утверждалось в первой части статьи, в изолированно взятом символе-субъекте мифологического синтетического суждения нет, по Иванову, именующей силы по отношению к референту мифа как целого, то есть ли вообще между ними какая-либо «привязка»? По всей видимости, да. Отрицая непосредственную объективацию символического референта (денотата) в символе-субъекте суждения и, следовательно, возможность его именовать, но, с другой стороны, используя как неименующий символ «чужое» имя (ведь всякий словесный символ ивановского типа является буквальным именем другого денотата), Иванов тем самым, действительно, ослаблял в этом «чужом» имени его объективирующую и референцирующую силу, но, как следствие, он неизбежно активизировал при этом символическую силу потенциальных предикатов этого «чужого» имени. Можно, следовательно, полагать, что ивановский символ – это не «чужое» имя (не «метонимия», ведь «собственное» имя, которое можно было бы метонимически заменить, в данном случае отсутствует) и не имя вообще, а совокупность плавающих, снятых с объективированных «гнезд» предикатов. Именно предикат (или предикаты) без объективирующей гнездовой привязки фиксируется таким изолированным символом. А так как в ивановском мифе (то есть уже не изолированно) символ берется в именной языковой форме, он этой формой одновременно, во-первых, объективирует предикаты (что, конечно, может быть только псевдообъективацией – объективацией без всякой контурной или предметной образности, то есть чисто семантической объективацией) и, во-вторых, снимает реально существовавший, семантически-буквальный (иногда – прямо чувственный) образ, стоявший за «чужим» именем в его непосредственном прямом употреблении. Следует, видимо, полагать, что по «свернутому» (имманентизированному) в нем языковому механизму ивановский символ – это безобразная объективация предиката. Все это пока напоминает содержательно холостую логическую игру. Чтобы данная нами абстрактная лингвосемантическая формулировка действительно «заговорила», необходимо насытить все ее компоненты реальным языковым смыслом.
Что, например, можно мыслить за «плавающим предикатом без образного гнезда»? Среди разнообразных ивановских обоснований выбора того или иного символа есть и такое прозрачное: «Тайна, о братья, нежна: знаменуйте же Тайное Розой…» Здесь идея выбора символа именно по предикату дана почти в схематическом виде, но что это за предикат? Чей он? Что уподобляется чему по предикату «нежный»: тайное – розе или роза – тайному? Скорее – последнее, ибо чувственное, согласно постулатам символизма, есть символ «идеи», а не «идея» – символ чувственного. Следовательно, лежащий в основе уподобления предикат первоначально «принадлежит» тайному. Однако, в случае ивановского символа вообще нельзя говорить об уподоблении в обычном смысле речевых тропов, ибо здесь лингвистически отсутствует один из членов уподобления – первоначальный «хозяин» обобществленного предиката, причем отсутствует не только его имя, но и его образ. Предикат «нежный» сам по себе образа нам не дает; это предикат, так сказать, второго порядка, рожденный от факта восприятия, а не сам таковым являющийся. Ср. искусственное: Тайна, о братья, красна: знаменуйте же Тайное Розой. Здесь бы мы имели намек на чувственно-образное и тем хотя бы минимально объективированное явление «тайного», а значит, могли бы применять и операцию уподобления в её традиционном понимании.
Строго говоря, относительно изолированно рассматриваемого (не изнутри мифологического суждения) ивановского словесного символа невозможно даже однозначно определить вектор направленности уподобления по предикату: от тайного к розе или обратно. Смысл уподобления здесь урезан; оно редуцировано до более «простой» идеи отождествления [33] неких общих предикатов второго порядка. Предикатов, как и утверждалось, без гнездовой, сколько-нибудь отчетливой привязки: ни «тайное» (референт символа) не предоставляет здесь возможности образной или хотя бы объективирующей фиксации плавающего предиката второго порядка, ни роза – ведь чувственная образность, стоящая за этим словом, относится не к его символическому смыслу, а к его преодолеваемому символизмом буквальному, именующему значению.
Вторичный характер несомого символом предиката не означает, в координатах ивановского реалистического символизма, его субъективности. Здесь имеется в виду особая по типу трансформация в «ином» (в имманентном) неких объективных моментов символического (трансцендентного) референта. Так же несубъективна в этом предикате и имманентная трансформация объективных моментов розы, ведь предикат «нежность» по отношению к розе может пониматься в далевой перспективе как основанный на «тактильной» образности. Об особом ивановском понимании образности и трансцендентно-имманентной природы символических референтов ниже еще будет говориться специально.
На выбор розы в качестве искомого символа влияет в ивановском символизме в том числе и эта далевая тактильная образность предиката «нежный» по отношению к розе. В самом деле, почему было бы «просто» не предложить «братьям» воспользоваться предоставляемой языком возможностью и не осуществить символизацию «тайного» посредством объективации, здесь – субстантивации, самого предиката, то есть почему не: Тайна, о братья, нежна: знаменуйте же Тайное нежностью! Метафизическая причина очевидна: ознаменование символического референта через чувственно данное явление относится к постулатам ивановского типа символизма. Роза, с ее далевой тактильной образностью, и берется здесь как чувственная символизация нежности. Подчеркнем: не как чувственная символизация самого символического референта, а как символизация именно и только его предиката. Референт в изолированном символе знаменуется только «чуть-чуть», только косвенно, по имманентной, то есть в определенном смысле – вторичной, предикативной касательной.
Имеет ли этот метафизический план ивановского символизма отражение в его языковой стратегии? Если, как мы утверждаем – да, то, следовательно, возможно сформулировать и собственно языковую причину ивановского отказа использовать в качестве символа «простую» субстантивацию предиката. В лингвистическом контексте причина отказа заключается в том, что непосредственная субстантивация предиката уводила бы в другую сторону от ознаменовательного ивановского символизма, так как субстантивация и по синтаксической, и по семантической функции приближена к именованию – если не сразу самого референта, то его предиката, а через него в определенном смысле и референта. И в имяславии, действительно, как раз и мыслится нечто аналогичное: предикат первичного именовательного суждения (субъектом которого, как мы помним, служит местоимение) оказывается в конечном счете именем предполагаемого данным суждением референта. По Иванову же, в такой субстантивирующей языковой «тактике» излишне сокращается принципиальное – ив языковом, и в метафизическом смысле – расстояние между символическим референтом и словом (здесь, собственно говоря, мы лишь перевели в лингвистическую транскрипцию тот уже сделанный выше вывод, что Иванов, напомним, оспаривал в имяславии в том числе и его тенденцию к сращению мистического опыта, то есть символического референта, с языком).