Владимир Новиков - Новый словарь модных слов
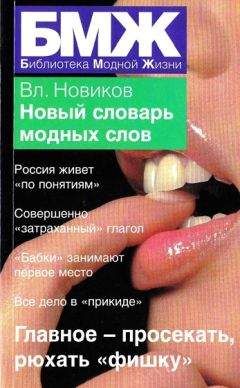
Помощь проекту
Новый словарь модных слов читать книгу онлайн
Эпитет «креативный» возник в сфере бизнеса — дизайна, рекламы. Там стали называть «креативными» работниками тех, кто может быстро и четко предложить новое, нетривиальное решение, «родить» удачный слоган, начертать небывалый эскиз, разработать перспективный «бренд». Возникло и существительное «креатив», обозначающее сферу такой деятельности.
Все чаще заходит разговор о «креативности» и применительно к литературе. Ведь «творческих» личностей у нас хоть пруд пруди, а серьезных и притом пригодных для чтения книг гораздо меньше. «Creatio» по-латыни — «созидание». Истинный поэт создает новые, смыслонесущие ритмы. Талантливый прозаик, настоящий драматург творят новые многозначные вымыслы. Вторичность, подражательность не креативны. И уж тем более легкая эссеистическая болтовня на любые темы — это не творчество, а «ля-ля-тополя». По строгому креативному счету говоря.
В некоторых периодических изданиях появилась должность «креативный редактор», и это уже нечто вроде делового термина. Если то же самое назвать «творческий редактор», может получиться недопонимание: вновь принятый сотрудник возгордится, начнет бездельничать и чего доброго загуляет. А с «креативного» все-таки можно спросить, потребовать реальный результат.
КРУТОНаречие, переходящее в междометие. Все чаще происходят события, на которые мы реагируем не мо-налогами или комментариями, а мгновенно слетающим с уст эмоциональным откликом: «Круто!» За этим словом могут стоять чувства самые разные: и восхищение, и растерянность, и страх.
Поначалу больше было страха. В жизнь вошли крутые ребята, «новые русские» и их обслуга. Крепкие, с накачанными мускулами, коротко остриженные, а то и вовсе бритоголовые, разъезжающие на крутых тачках, развлекающиеся крутой эротикой. От таких хотелось держаться подальше.
Но постепенно слово «крутой» становилось все более одобрительным эпитетом — подобно своим предшественникам «железный» и «клевый», оно стало означать «настоящий», «подлинный». Если, к примеру, меня кто-то назовет «крутым критиком», я не обижусь, а скорее наоборот: в любом деле надо быть крутым профессионалом. И писать хочется так, чтобы по прочтении кто-то мог сказать: «Круто!»
А что же до крутых парней, то не стоит перед ними пасовать. Квентин Тарантино, которого называют «крутейшим кинорежиссером», сумел бесстрашно взглянуть на самый шальной беспредел и, гиперболизировав жестокость, преодолел ее творчески. У него «крутизна» приобрела сугубо эстетический характер, стала эквивалентом духовной цельности и стойкости.
И в языке «крутизна» слов этого корня понемногу сглаживается, приобретает благопристойные очертания. Появился журнал «Круто» с девизом-слоганом «сердце прогрессивной молодежи». Там все в рамках — ничего общего с порнографической газеткой «Крутой мен».
А вообще-то «крутой» — слово изначально честное и выразительное. Ему доступен высокий трагический пафос: вспомним «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург название, ставшее по сути метафорой исторического пути нашей страны в XX веке. Может это слово быть и лиричным: как там у Высоцкого в «Куполах»? «Воздух крут перед грозой, крут да вязок». Да, воздух у нас именно таков, такая у нас постоянно сгущенная атмосфера. Спрашивают иностранцы: как нам в России живется, хорошо или плохо? Отвечаем: ни то ни другое. У нас здесь — круто!
КУЛЬТОВЫЙКачественное прилагательное неустойчивого значения. Его смысл только-только начал прояснятся. До недавних пор это прилагательное было относительным и употреблялось редко, лишь в связи с религиозно-культовыми обрядами и ритуалами. Теперь же мы его слышим почти каждый день. «Культовый певец», «культовая книга» — такими заклинаниями постоянно охмуряют нас ретивые служители разных культов и культиков. У настойчивого эпитета появилась превосходная степень, и уже можно прочесть: „На игле“ — культовейший фильм девяностых». Значит, новое словечко даже грамматически укрепилось и окопалось. Просто так от него не отмахнешься.
Хорошо это или плохо — быть культовой фигурой? Возьмем двух писателей — Достоевского Ф.М. и Толстого Л.H. По гениальности они примерно равны, степень мировой известности у них одинакова. Разница в том, что Лев Толстой при жизни был «культовой» фигурой, а Достоевский — нет. Толстой, говоря современным языком, разыгрывал в своем поведении определенную «фишку»: «не кушал ни рыбы ни мяса, ходил по аллеям босой», как в песне поется. Достоевский же, имея весьма эффектную биографию (смертный приговор, каторга), обошелся без игрового имиджа. Вокруг Толстого была свита, по России развелись толстовцы, а вот «достоев-цев» не появилось. Толстой ревниво развенчивал Шекспира, а Достоевский ни на кого из великих предшественников особенно не «наезжал». Что же в итоге? Каждый из двух гениев был по-своему прав, а «культовость» сама по себе ни хороша ни дурна.
«Культовая» фигура — это кандидат в гении, претендент на место в истории, участник конкурса, где лишь один из многих тысяч становится Львом Толстым. Иногда конкурсант выдвигает сам себя («Я, гений Игорь Северянин»), а чаше на «культ» работает добровольная группа поддержки, смиренная паства новоявленного пророка. Они получают свой процент с популярности восхваляемого идола, говоря: это мы его открыли, мы его больше ценим и лучше понимаем, чем все остальные. «Культовость» несовместима с всеобщим признанием, она всегда оппозиционно-альтернативна, эпатажна и зачастую выпендрежна. А если кто-то или что-то нравится всем, то это уже уходит просто в «культуру» и теряет пикантность.
Культовым писателем был Венедикт Ерофеев, эстетизовавший пьянство и изгойство. Вполне «культов» (давайте образуем уж и краткую форму!) любимец молодежи Виктор Пелевин, чьи «фишки» — компьютер, наркомания и «дзэн». Кому-то из кумиров везет, и все почести ему доставляют на дом, а иным приходится попотеть: Эдуард Лимонов, чтобы продлить и укрепить свою «культовость», вынужден был угодить за решетку.
«Культовость» не передается по наследству. Великий режиссер Андрей Тарковский открыл свою вселенную, и уже в ней «пересекся» (вспомним фильм «Зеркало») с отцом, знаковым поэтом интеллигенции Арсением Тарковским. Никому также не удавалось «протыриться» в «культовое» пространство посредством брачных уз. Ведь Надежда Мандельштам, к примеру, стала духовным «гуру» вольнодумцев-шестидесятников не как жена великого поэта, но как самостоятельная личность. А женитьба на очень культовой Алле Пугачевой не сделала «раскрученного» певца по-настоящему культовым: умение материться оказалось недостаточно оригинальной «фишкой».
Эпитет «культовый» — вызывающее слово. Оно каждого из нас взывает к разговору и спору об очередном кандидате в короли. Ты можешь поклониться кумиру, а можешь кричать, что король голый. Полная свобода, потому и занятно. Обычно нас ни о чем не спрашивают, а тут как раз моим, твоим, нашим мнением интересуются.
М
МАРГИНАЛ
Жестокое, бездушное слово. У социологов оно означает человека, находящегося вне социальной группы. Маргинал — это изгой, аутсайдер, а то и бомж. Тот, кого вытолкнули на обочину, кто оказался на краю.
С житейской точки зрения, конечно, лучше не попадать в маргиналы. Не всякий способен сохранить достоинство в нищете, не опуститься без поддержки социальной группы, не свихнуться от одиночества. Нет ничего хорошего в том, что сегодня маргинализуется, чахнет без государственной поддержки академическая наука. Что угроза маргинализации нависла над толстыми литературными журналами, почти незаметными на пестром фоне «глянцевой» макулатуры. Порой слышишь и читаешь, что русский интеллигент как таковой — это безнадежный маргинал, дни которого сочтены.
Не спешите, однако, расписываться за грамотных. Интеллигент не так уж глуп и беспомощен, как это кажется тем, для кого высшие ценности — деньги, власть и успех. Его не страшит кличка «маргинал», поскольку он зрит в самый корень и видит там латинское «margo, marginis» («край, граница»), от которого пошли и французское «marge», и английское «margin», то есть слова, обозначающие поле книжной или рукописной страницы. (Из этого гнезда, кстати, и международный термин «маргиналия» — запись на полях.)
Текст страницы заполнен буковками. Там нет места для нового слова. Так стоит ли «протыриваться» в центр, работая локтями, воевать за место под солнцем, поближе к власти предержащей?
Пространство для прорыва — это как раз «поля» страницы. Открытия совершаются на краю, на границе. А центр, середина — родина деловитых посредственностей, из которых вербуются начальники и чиновники. Пушкин был, конечно, маргиналом по сравнению с Горчаковым, товарищем его по лицею. Еще пример: нервный и смертельно больной маргинал дописывал в 1940 году безнадежное с конъюнктурной точки зрения сочинение под названием «Мастер и Маргарита». Когда «успешные» советские писатели заседали на своем съезде в Колонном заде, среди них не было ни Булгакова, ни «маргинала» Мандельштама. Правда, Пастернака туда затащили, но, почувствовав опасность превратиться в «сановника», он стал понемногу дрейфовать в сторону края, «погружаться в неизвестность и прятать в ней свои шаги». Страничные «поля» стали для него метафорой свободы:

























