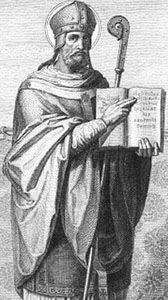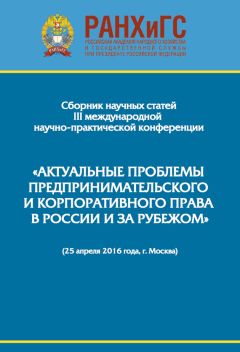Людмила Гоготишвили - Непрямое говорение
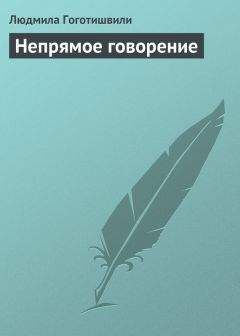
Помощь проекту
Непрямое говорение читать книгу онлайн
302
Технологическое (без концептуальных отождествлений) сходство с таким подходом можно усматривать в генеративной поэтике (А. К. Жолковский, Ю. К. Щеглов), использовавшей в том числе «риторические фигуры» языка кино (С. Эйзенштейн): сокращение, совмещение, контраст, затемнение и т. д. Схоже с терминами «киноязыка» и само понятие инсценирования – см. в работе: Жолковский А. К. «Порождающая поэтика в работах С. М. Эйзенштейна» о приемах развертывания передаваемого в мизансцену, мизансцены – в последовательность кадров или «раскадровку» (в феноменологии говорения это и есть последовательность актов говорения); каждый кадр дробится в свою очередь на игровые моменты, снимаемые с одной точки (ноэматический состав, обымаемый одной ноэсой). Близки к феноменологии говорения параллели с киноязыком, проводимые в ином аспекте Ж. Женеттом в «Фигурах», Б. А. Успенским в «Поэтике композиции», Ю. Лотманом в кн. «Семиотика кино и проблемы киноэстетики» (Таллин, 1973) и, конечно, Ж. Делезом (ДелезЖ. Кино. М., 2004), отмечавшим, в частности, у С. Эйзенштейна «новую концепцию крупного плана, новую концепцию ускоренного монтажа, вертикальный монтаж:…, интеллектуальный монтаж: или монтаж: сознания» (с. 83) – все это очевидно наполняемо имеемым здесь в виду феноменологическим содержанием в плане комбинаторики ноэтически-ноэматического состава. Для феноменологии говорения эти очевидные параллели с языком кино настолько существенны, что требуют не спорадического, а отдельного обсуждения.
303
Интересно, что идея сближения, но невозможности тотального совпадения субъекта и предиката модифицированным образом отзовется в бахтинской идее «тотальной экспрессии» как «почти полного совпадения автора и героя в лирике», причем автор и герой тут – модифицированные аналоги ноэсы и ноэмы.
304
Дополнительные материалы к такому пониманию статуса субъект-предикатной структуры см. в статье «Эйдетический язык» (§ 55 «Не универсализм, а логико-формальная „свобода“ синтаксического субъекта от референта» и др.).
305
Возможность ориентации высказываний исключительно на референт, даже при самых значительных модификациях в толковании этого понятия – давно уже вопрос проблематичный. В некоторых случаях при декларировании такой установки на определенном этапе в ситуацию все равно вмешиваются ноэтические и эгологические аспекты (называемые иногда – «коммуникативной ситуацией»). См., в частности, наблюдения С. Зенкина над логикой изложения нарратологии В. Шмидом (Зенкин С. Критика нарративного разума // НЛО. 2004. № 65): «"Нарратология" Вольфа Шмида – незаурядное событие в практике отечественного книгоиздания… Мне, однако, кажется, что внутренняя логика авторского изложения – логика определения и развития базовых понятий – обладает меньшей стройностью, чем внешняя логика книжной композиции… Сначала В. Шмид сильно и четко вводит различие двух существующих определений повествования: „классического“ (повествование – это сообщение о действительности не прямым подражанием, как в драме, а при участии посредующей инстанции, рассказчика-нарратора) и „структуралистского“ (повествование – это изложение событий, „истории“). Как заявляет автор, это второе понятие о нарративности „легло в основу настоящей работы“ (с. 12). Итак, сделан важный и открытый теоретический выбор: повествование определяется не субъектом, а объектом, не наличием повествователя, а событийной природой того, о чем говорится… Достигнут ли, однако, желаемый результат, удалось ли определить повествование?… Возможно, чувствуя… шаткость своих исходных дефиниций, В. Шмид вскоре оставляет „события“ в стороне и на протяжении двух больших глав трактует о рассказчике, то есть о сложной системе и взаимодействии личных инстанций, которыми опосредуется повествовательное сообщение о событиях. Иными словами, на деле он возвращается к той проблематике, которую сам же отвел как нерелевантную для определения повествования; теперь, при непосредственном анализе нарратива, она оказывается более релевантной, чем понятие „события“, послужившее лишь для формальной, к тому же не доведенной до конца, дефиниции предмета».
306
Момент связи слов с точки зрения смысла – один из самых сложных для понимающего схватывания; во всяком случае речь здесь также вряд ли может идти о просто прямом наложении друг на друга семантических значений – смысл не в самих сочетаемых словах и в их сумме, а в акте их связывания, где-то «между» ними. См. замечание по этому поводу М. Мерло-Понти: «смысл зарождается только в точке их <слов> соприкосновения, как бы в интервале между словами» (Косвенный язык и голоса безмолвия IIМерло-Понти М. Знаки. М., 2001. С. 47).
307
Мы здесь входим в частичное терминологическое противоречие с Гуссерлем, также использовавшим термин «синтактика» и также со– и противопоставлявшим ее синтаксису. Гуссерль применял термин синтактика для обозначения синтетических форм чистого сознания «по созвучию» и по противопоставлению с «синтаксисами грамматик» (§ 134). Частичность противоречия в том, что в чистом сознании все сцепления у Гуссерля – синтактичны, включая сцепления смыслов ноэм, например, аналитические. Это можно было бы назвать «ноэматической синтактикой». Акцентируемая нами связь актов в потоке сознания, т. е. ноэтическая синтактика, и у Гуссерля – не синтаксис, а синтактика. Так, «синтактично», а не «синтаксично» и гуссерлево конституирование (от лат. constituere – составлять, упорядочивать, организовывать), означающее не последовательность эксплицированных значений-смыслов (ноэм как таковых), а последовательность и совокупность актов, в которых сознание опредмечивает свои интенциональные объекты и наделяет их смыслом, продуцируя (конституируя) ноэмы. В конституировании как действии подчеркивается именно ноэтическая сторона. Отличия между синтактикой сознания и языковой синтактикой – те же, что и описанные выше отличия гуссерлевых внекоммуникативных актов логического выражения от актов говорения, включающих в себя коммуникативность и другие собственно языковые мотивы и цели и тем разнящихся, как минимум, телеологически.
308
Это может быть как внутреннее феноменологическое время выражаемого потока актов, так и время, которое требуется для «потребления» высказывания, как оно толкуется Женеттом: «Повествовательный текст, как и любой другой, не имеет никакой другой временной протяженности, нежели та, которую он берет метонимически из процесса чтения» (Фигуры. Т. 2. С. 70).
309
Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. М., 1994. С. 27–28.
310
Понятие «ноэматического смысла» как «ядерного слоя» ноэмы есть и в ЛИ, и, подробнее, в «Идеях 1» (§ 90); ближе всего к имеемому здесь в виду он определен в § 124 – как «ноэматический смысл акта», что подразумевает и некий «не ноэматический» смысл акта (мы уже приводили это значимое место: «В поэтическом аспекте рубрикой „выражающее“ будет обозначаться особый слой актов – такой, к какому возможно своеобразно приспособлять и с каким возможно замечательным образом сливать все прочие акты, именно так, что любой ноэматический смысл акта, а, стало быть, заключающаяся в таковом сопряженность с предметностью отпечатляется в ноэматическом аспекте выражения „понятийно“» – § 124).
311
Речь идет не о физическом объекте, который, конечно, никак не есть сам-в-себе смысл, а о различных (у одного объекта, как говорит Ж. Делез, может быть несколько ноэм) становящихся ноэматических коррелятах этого «дерева» в актах сознания. См. также у Гуссерля: «Само дерево, вещь природы, не имеет ничего общего с этой воспринятостъю дерева как таковой, каковая как смысл восприятия совершенно неотделима от соответствующего восприятия»; именно здесь далее следует часто цитируемое положение Гуссерля: «Само дерево может сгореть, разложиться на свои химические элементы и т. д. Смысл же —… не может…» (§ 89).
312
Тезис об обладании чувственных данных смыслом для феноменологии – в отличие от других направлений – органичен. См., напр., оценку Шпигельберга (Шпигельберг Г. Феноменологическое движение. М., 2002. С. 555): «Для Мерло-Понти не существует таких вещей, как не обладающие смыслом чувственные данные Прайса» (имеется в виду X. X. Прайс и его книга «Perception», 1933). В принципе – это вопрос не столько «реальный», сколько стратегически-терминологический: признание наличия или отсутствия смысла у такого рода ощущений (и в сфере телесности в целом) зависит от стратегической нацеленности в толковании термина «смысл».
313
В инотерминологической отдаленной перспективе различие ноэматического и ноэтического смысла имеет – как, по-видимому, понятно – косвенное отношение к проблеме оппозиции аполлонийства и дионисийства (этот разворот темы подробно обсуждается в статье об ивановском символизме «Между именем и предикатом»).
314
См. у Дж. Драммонда в «The Phenomenology of the Noema»: не лучше ли «совершить то, что John Braugh с хирургической точностью назвал „ноэмоктомией“, навсегда удалив из тела нашего феноменологического пациента этот онтологически и эпистемологически бесполезный аппендикс» (цит. по: Мотрошилова, с. 418).