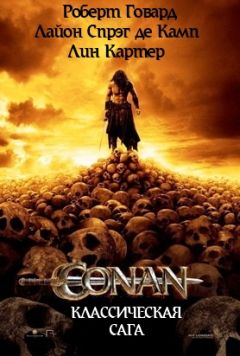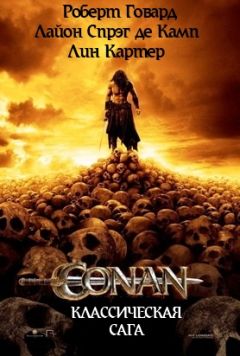Михаил Губогло - Антропология повседневности
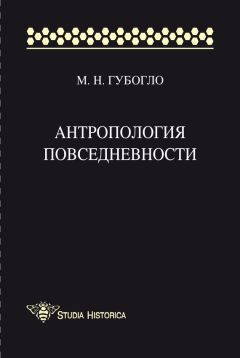
Помощь проекту
Антропология повседневности читать книгу онлайн
Не зря сказал мудрец: «Народы рождаются в деревнях, а умирают в городах».
Мы в городе живем, а в нас живет деревня.
Так уж сложилось, так пошло издревле.
Там запах меда и ржаного хлеба…
А что есть жизнь? – поди спроси у неба.
А кто есть мать? – поди спроси у сына.
Сначала корни, а потом вершина[14].
Следуя логике семиотических исследований Ю. М. Лотмана и Н. Н. Зарубиной, Дом, как домашний очаг, наделяется смыслом не только безопасности, защищенности и даже культуры и проявляет функции концепта-антипода страха, хаоса и варварства, в то время как оппозиция Дому (домашнему очагу) выражается Дорогой (странствием) как метафорой духовных исканий и духовного возрождения, противопоставляемого рутине повседневного быта [Лотман 1992: 457; Зарубина 2011:53–54].
У Н. В. Гоголя метафора Дороги логично сливается с образом России, мчащейся подобно необгонимой тройке.
Не так ли ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом!.. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства [Гоголь 1994,5:225–226].
Каргапольская средняя школа, как видно из опыта и стратегии ее воспитательной работы, вдохновенно осуществляемой коллективом талантливых учителей, в 1950-е годы играла роль посредника, перекидывая мост между малоподвижным повседневным бытом, генерируемым домашним очагом, и динамичным внешним миром. Школа настраивала своих питомцев на дорогу в широком и узком смысле, на странствия, на горизонтальную мобильность и вертикальную карьеру [Постовалова 1995].
Следуя классическим традициям русской литературы, Курганский поэт Геннадий Артамонов представил школьный порог в образе «дальней дороги» как послешкольной жизни.
Сегодня в нашем классе тишина,
Присядем перед дальнею дорогой,
Отсюда начинается она,
Уходит в жизнь от школьного порога.
Сегодня, оглядываясь в череду дней прошлой повседневной жизни послевоенного периода нельзя не видеть, что культуртрегерская роль школы накануне и в годы хрущевской оттепели звала в дорогу, но задавала своим питомцам разные ориентиры. Одним – судьбу лесковского Флягина, который отправляется в дорогу жизни, чтобы, следуя вызовам взросления и социализации, окрепнуть душой и гражданской направленностью, другим – подобно Онегину, напротив, бежать от себя из неподвижной повседневности. Но всех объединяло предчувствие дороги, как жизненного пути, трансформации души, познание величия и мощи своей родины, обретения гармонии со страной и самим собой.
Романтика дорог с упоением усваивалась во время вечеров встреч с выпускниками школы, поступившими в университеты и институты страны. Этот день школьники старших классов ждали с нетерпением и с упоением слушали рассказы своих земляков о повседневной жизни студентов и горожан.
За вылет из родного сельского гнезда агитировала доска, как путеводная звезда: «Они учились в нашей школе», с фотографиями студентов, академиков, героев Советского Союза, крупных общественных деятелей, окончивших Каргапольскую среднюю школу.
На фотографиях, сделанных через 55 лет, показаны 3 школьных здания: начальная школа в с. Тамакулье, где я учился в 3–4 классах, полуразрушенная восьмилетняя школа, в которой обучение велось в 5–7 классах, и, наконец, белокаменная средняя школа в Каргаполье, в которой учились учащиеся 9–10 классов.
Начальная школа в с. Тамакулье, которую М. Н. Губогло закончил в 1950 г Фото М. Н. Губогло, 2012 г
Восьмилетняя школа в с. Каргаполье Фото М. Н. Губогло, 2012 г
Десятилетка в с. Каргаполье. М. Н. Губогло закончил ее в 1957 г Фото М. Н. Губогло, 2012 г
Состояние этих школ вполне убедительно репрезентирует дела нынешней образовательной системы, отказавшейся не только от комфортабельных, окруженных теплой акацией школьных зданий, но и воспитания учеников в духе любви к своей малой родине и своему Отечеству.
Повседневность в известном смысле – та же дорога, но в значительной мере – дорога по замкнутому кругу. В то время как дорога-судьба, дорога-движение – это мобильность человека, народа, страны, движение вперед.
Дорога, как и любовь, есть концентрированное проявление и неотъемлемый атрибут жизни. Именно поэтому дорога чаще, чем рутинная повседневность, выступает в жизни и в русской литературе или символом, или даже синонимом жизни.
Представляя перевод на русский язык учебник по «Социологии», один из патриархов американской социологии XX в. Нейл Смелзер, автор выдающихся работ в области экономической социологии, теории коллективного поведения, теории социальных изменений и методологии сравнительных исследований, предостерегал русскоязычных читателей от искушения антипримордиалистского понимания этнической истории и ее проявлений в ряде сфер и ситуаций повседневной жизни.
Западная социология от Ф. Тенниса до наших дней, – по мысли Нейла Смелзера, – была введена в заблуждение представлением о том, будто рост сложных, рациональных, целенаправленных организаций означает общее ослабление примордиальных сил (подчеркнуто мной. – М. Г.). Более того, много раз в своей истории Советский Союз пытался подавить семью, религию и прежде всего этническую общность (снова подчеркнуто мной. – М. Г.). В конечном счете эта попытка потерпела неудачу. Стремление к национальной независимости было в сущности одним из главных факторов, приведших к окончательному крушению советского коммунизма. В настоящее время эти исконные силы – одним словом, силы Геманшафт (общины, в отличие от общества по Ф. Теннису. – По уточнению Нейла Смелзера), видимо, снова заявляют о себе в региональном, этническом и лингвистическом сознании, в социальных движениях и в политической борьбе во всем мире [Смелзер 1994: 13].
В относительно кратком, но емком предисловии к русскому изданию «Социологии» маститый профессор обращается не только к студентам и аспирантам, но и к более широкому кругу читателей, в том числе к коллегам по профессии, а также к предпринимателям и руководителям научных и иных коллективов с просьбой-наказом не самоустраняться от «примордиальных сил» и продолжать изучение феномена «неукротимости примордиальности» в обществе» с тем, чтобы «социологи переосмыслили прежние теории социальных перемен и обратили на примордиальные структуры достойное внимание, какового они всегда заслуживали, но которое не всегда им уделялось» [Там же].
2. Траектории изменений в повседневной жизни в иноэтнической среде
Одним из важнейших позитивных обретений адаптационного процесса спецпереселенцев, вероятно, можно считать нарастающую доверительность местного населения, включая доверие, оказываемое им со стороны местной колхозно-административной элиты. Не прошло и десятилетия, как местная среда перестала воспринимать вынужденных переселенцев в качестве чужаков. На это был свой местный резон.
Обезлюдевшая зауральская послевоенная деревня, едва ли не полностью потерявшая на фронтах Великой Отечественной войны своих мужчин, и по-черному хлебнувшая страданий, горя и бед, едва сводившая концы с концами, с пониманием отнеслась к привезенному контингенту свежей рабочей илы. С одной стороны, депортированное население ежемесячно должно было отмечаться в спецкомендатуре, свидетельствуя незыблемость своей «привязки» к району и к селу вселения. Не эту ли ситуацию вспоминал местный поэт, уроженец Каргапольского края Анатолий Предеин, когда писал о неопределенной судьбе спецпереселенцев, которые в течение более двух недель, пока ехали в поезде, не знали, куда их везут, где и как они будут жить.
Нельзя в этом мире кровавом,
Как будто в туннельном, идти –
Ни влево шагнуть, ни вправо,
Не зная, что впереди.
Поэт, вероятно, будучи осведомлен о трагической судьбе спецереселенцев, в том числе о зачитанной им в официальных органах директиве о том, что они переселяются «навечно», без указания куда именно, в какую точку Советского Союза.