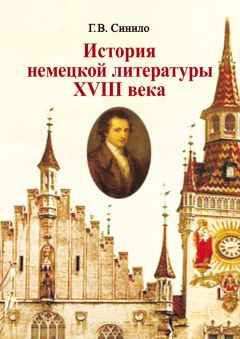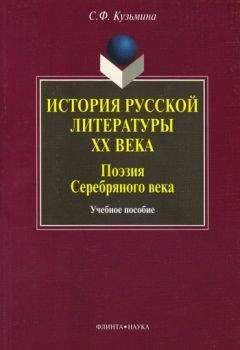Галина Синило - Танах и мировая поэзия. Песнь Песней и русский имажинизм
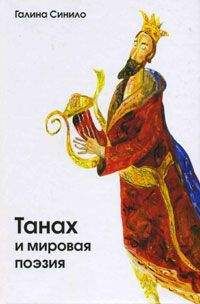
Помощь проекту
Танах и мировая поэзия. Песнь Песней и русский имажинизм читать книгу онлайн
Гибель Есенина, а также переезд в 1928 г. с женой, актрисой Камерного театра А. Б. Никтриной, в Ленинград (Никтрину, на которой поэт женился еще в 1923 г., пригласили играть в БДТ) стали переломными событиями в жизни Мариейгофа. В «Автобиографии» он писал: «Со смертию Есенина и переездом в Ленинград закончилась первая половина моей литературной жизни, в достаточной мере бурная. С 30-х годов я почти целиком ухожу в драматургию. Моя биография — это мои пьесы»[35]. Действительно, Мариенгоф написал больше десяти больших пьес и множество скетчей; и те, и другие широко ставились на сценах советских театров, особенно «Заговор дураков» (1923), «Люди и свиньи» (1931), «Шут Балакирев» (1940), «Суд жизни» (1948); совместно с М. Козаковым — «Преступление на улице Марата» (1945), «Золотой обруч» (1946). Он писал также киносценарии и романы, из которых особенную известность получили «Роман без вранья» (1927) и «Циники» (1928). В 30-е годы писатель работал над историческим романом «Екатерина» (полностью опубликован лишь в 1994 г.[36]). В 1953 г. Мариенгоф начал писать автобиографическую книгу «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги», сокращенный вариант которой под названием «Роман с друзьями» был опубликован посмертно[37].
Поэт надолго разошелся со стихией поэзии. Потребность в работе над поэтическим словом Мариенгоф ощутил вновь лишь в связи с потрясениями Великой Отечественной войны. В июне 1941 года он приходит на Ленинградское радио, чтобы читать в выпусках «Радиохроники» свои баллады, а точнее — очерки в стихах о подвигах защитников Родины, которые он пишет ежедневно. Однако вскоре вместе с Большим драматическим театром поэт и его жена были эвакуированы в Киров. Здесь в 1942 г. вышли в свет две последние поэтические книги Мариенгофа — «Пять баллад» и «Поэмы войны».
К своим ранним стихам он обратился после войны, готовя их к публикации. Однако поэт уже с трудом узнавал в них себя самого, они ему не нравились. В результате он начал их переделывать, переписывать (этой судьбы не миновала и поэма «Магдалина»). В 1958 г. Мариенгоф предложил издательству «Советский писатель» рукописи двух книг, но обе были отклонены. Напечатали лишь сборник, включавший две пьесы («Рождение поэта. Шут Балакирев». Л., 1959). Книга прозы была издана через четверть века после смерти Мариенгофа[38], стихи же его дошли до современного читателя лишь в 1997 г. в томе «Поэты-имажинисты» (серия «Библиотека поэта»).
Думается, именно в стихах имажинистского периода прежде всего проявилось неординарное, новаторское мышление Мариенгофа. Поэт верил в то, что строки, написанные им в период особенного творческого взлета, в период дружбы с Есениным, дойдут до потомков, как и стихи его гениального друга. В посвящении С. Есенину, написанном в марте 1920 г., он писал:
На каторгу пусть приведет нас дружба,
Закованная в цепи песни.
О день серебряный,
Наполнив века жбан,
За край переплесни.
Меня всосут водопроводов рты,
Колодези рязанских сел — тебя.
Когда откроются ворота
Наших книг,
Певуче петли ритмов проскрипят.
И будут два пути для поколений:
Как табуны пройдут покорно строфы
По золотым следам Мариенгофа
И там, где, оседлав, как жеребенка, месяц,
Со свистом проскакал Есенин.
Он повторял как клятву в верности дружбе и поэзии свои стихи того рокового года, когда они расстались с Есениным:
И нас сотрут, как золотую пыль.
И каменной покроют тишиной.
Как Пушкин с Дельвигом дружили,
Так дружим мы теперь с тобой.
Семья поэтов чтит обычай:
Связует времена стихом.
Любовь нам согревает печи
И нежность освещает дом.
Тема любви изначально осознается Мариенгофом как одна из самых генеральных в его поэзии. Показательно, что именно эта тема, именно концепт «любовь» всегда сопровождаются библейскими аллюзиями, предполагают погружение в библейский контекст, как, например, в стихотворении «Из сердца в ладонях…» (1916), написанном поэтом в девятнадцатилетнем возрасте:
Из сердца в ладонях
Несу любовь.
Ее возьми —
Как голову Иоканана,
Как голову Олоферна…
Она мне, как революции — новь,
Как нож гильотины —
Марату,
Как Еве — змий.
Она мне, как правоверному —
Стих
Корана,
Как, за Распятого,
Иуде — осины
Сук…
Всего кладу себя на огонь
Уст твоих,
На лилии рук.
Показательно, что любовь понимается поэтом как состояние на пределе сил и возможностей, как соединение обновления, потрясения всего человеческого существа и наказания, страдания, как предельная самоотдача, самопожертвование, самосожжение. В финале возможно усмотреть скрытые аллюзии на Песнь Песней, где любовь уподобляется огню (пламени) Божьему, где обильно присутствует топика, связанная с лилиями.
Топос «лилия» («лилии») является одним из устойчивых в любовной лирике Мариенгофа. Лилии ассоциируются с тонкими, сплетенными или заломленными руками возлюбленной («Дай же, дай холодных белых рук твоих, Магдалина, плети» [210]), а также с поэтической лирой и весной, когда пробуждаются вместе любовь и вдохновение:
Откуда, чья это трогательная заботливость —
Анатолию лилии,
Из лилий лиру,
Лилии рук/
Лилии ассоцируются также с глазами возлюбленной, и потому они неожиданно становятся синими:
В вазах белков вянут синие лилии,
Осыпаются листья век,
Под шагами ласк грустно шурша.
Обилие библейских образов, аллюзий и реминисценций связано у Мариенгофа, как и у других имажинистов, с острым ощущением катастрофичности времени, несущего грозные и неясные перемены, надежду и ужас:
Каждый наш день — новая глава Библии.
Каждая страница тысячам поколений будет Великой.
Мы те, о которых скажут:
«Счастливцы, в 1917 году жили».
А вы всё еще вопите: «Погибли!»
Всё еще расточаете хныки!
Глупые головы,
Разве вчерашнее не раздавлено, как голубь
Автомобилем,
Бешено выпрыгнувшим из гаража?!
Приветствуя перемены, уповая на преображение мира («Что убиенные!.. // Мимо идем мы, мимо — // Красной пылая медью, // Близятся стены // Нового Иерусалима» [201]), поэт одновременно с плохо скрываемым ужасом осознает, насколько сместились все человеческие понятия и представления, извратились подлинные духовные ценности, как «кровью плюем зазорно // Богу в юродивый взор. // Вот на красном черным: // „Массовый террор“» [197], как вновь, растиражированная, повторяется евангельская история:
Твердь, твердь за вихры зыбим,
Святость хлещем свистящей нагайкой
И хилое тело Христа на дыбе
Вздыбливаем в Чрезвычайке.
Что же, что же, прощай нам, грешным,
Спасай, как на Голгофе разбойника, —
Кровь Твою, кровь бешено
Выплескиваем, как воду из рукомойника.
Кричу: «Мария, Мария, кого вынашивала! —
Пыль бы у ног твоих целовал за аборт!..»
Зато теперь: на распеленутой земле нашей
Только Я — человек горд.
Финальное эпатирующее четверостишие звучна как вариация знаменитого ницшеанского «Бог умер», как признание, что прежние ценности рухнули. Не случайно имя Ницше возникает в цикле «Слепые ноги» (1919) после горького признания в том, что «надо учить азы // Самых первых звериных истин» [220]:
Жилистые улиц шеи
Желтые руки обвили закатов,
А безумные, как глаза Ницше,
Говорили, что надо идти назад.
Вновь и вновь в стихотворениях Мариенгофа, написанных в 1918–1920 годах, варьируется мотив гибели Бога, нового Распятия, разлития моря человеческой крови:
Опять Иисус на кресте, а Варавву
Под руки и по Тверскому…
Кто оборвет, кто — скифских коней галоп?
Поющие марсельезы смычки?
Толпы, толпы, как неуемные рощи,
В вороньем клекоте, —
Кто-то Бога схватил за локти
И бросил под колеса извозчику.
Тут и тут кровавые сгустки,
Площади как платки туберкулезного, —
В небо ударил копытами грозно
Разнузданный конь русский.
Багровый мятежа палец тычет
В карту
Обоих полушарий:
«Здесь!.. Здесь!.. Здесь!..»
В каждой дыре смерть веником
Шарит:
«Эй! к стенке, вы, там, все — пленники…»
И земля, словно мясника фартук,
В человечьей крови, как в бычьей…
«Христос Воскресе!»
Только в этом контексте восприятия революционной действительности, соединяющего восторг и ужас, возвышенное и страшное, прекрасное и безобразное, можно относительно объективно интерпретировать специфику преломления темы любви в поэзии Мариенгофа, и преломления прежде всего через призму библейских смыслов, библейской топики. Точнее, поэт эпатирующе, как и остальные имажинисты, соединяет грубую обыденность, нарочитую сниженность образов и интонаций с высоким библейским пафосом, парадоксально скрещивает профанное и сакральное. Так, например, очень показательно начало стихотворения «Днесь» (1918):