Галина Синило - История мировой литературы. Древний Ближний Восток
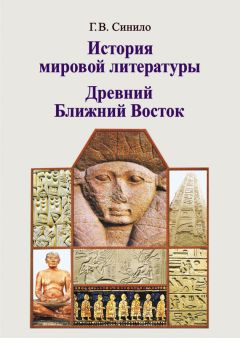
Помощь проекту
История мировой литературы. Древний Ближний Восток читать книгу онлайн
Главный пафос «Текстов пирамид» заключен в страстном стремлении смертного достичь бессмертия, в них выражено извечное желание человека преодолеть смерть, заглянуть по ту сторону жизни, почувствовать надежду, прикоснуться к вечности:
И летит он, летящий далеко,
Он улетает от вас, о люди!
На земле его нет, он на небе.
Он пронзил небеса, словно цапля,
Он лобзал небеса, словно сокол,
Он вскочил к небесам саранчою.
Текст свидетельствует о высоком уровне поэтической организации: наличие анафор, смелых сравнений и метафор, сходство синтаксических конструкций, которые усиливают главную мысль, дают ее разные вариации (так называемый семантический и синтаксический параллелизм). Большинство фрагментов «Текстов пирамид» обращено к разным богам (особенно к богине неба Нут) и представляет собой начало жанра культового гимна:
О Великая, ставшая небом…
Наполняешь ты всякое место своей красотою.
Земля вся лежит пред тобою – ты охватила ее,
Окружила ты и землю, и все вещи своими руками.
Слово, обращенное к богу, должно было обладать особой мощью, особой силой воздействия. Именно поэтому такое большое значение приобретают ритм, художественная экспрессия, красочность, живописная наглядность образов, что превращает «Тексты пирамид» в шедевры древней поэзии:
О ты, шагающая так широко,
Сеющая смарагды, малахит и бирюзу, словно звезды,
Когда цветешь ты, цвету и я,
Цвету, подобно живому растению.
Появление жанра автобиографической надписи также было связано с культом мертвых и с особым отношением к имени человека. Имя – отражение духовной субстанции, своеобразный двойник человека. Поэтому на надгробной плите нужно было прежде всего увековечить имя человека. Уничтожение имени в гробнице или храме могло лишить человека бессмертия, его же сохранение – сохранить умершему загробную жизнь. Разумеется, возможностью сохранения имени, как и сооружения особых гробниц, в первую очередь обладали богатые и знаменитые людей – фараоны, полководцы, вельможи. К многочисленным титулам, подаркам, наградам, которые перечислялись в надгробной надписи, постепенно стали прибавляться эпизоды жизни умершего, написанные от первого лица. Так возник жанр художественной автобиографической надписи, часто обладающей высокими поэтическими достоинствами, сочетающей прозу и стихи. Такова, например, знаменитая автобиография военачальника Уни (сер. 3-го тыс. до н. э.), который возглавлял войско фараона Пепи II в походе «против азиатов, жителей песков», и вернулся с богатыми трофеями. Фрагмент текста, описывающий победоносные результаты этого похода, имеет четкую строфическую структуру и организован с помощью анафорических повторов и параллелизмов:
Вернулось это войско благополучно,
разорив страну жителей песков.
Вернулось это войско благополучно,
растоптав страну жителей песков.
Вернулось это войско благополучно,
разрушив укрепления ее.
Вернулось это войско благополучно,
срубив смоковницы и виноградные лозы.
Вернулось это войско благополучно,
предав огню все [дворцы правителей] ее.
Вернулось это войско благополучно,
истребив воинство ее – многие десятки тысяч [мужей].
Вернулось это войско благополучно,
[захватив] в ней множество пленников.
Похвалил меня его величество за это больше всех.
Известный исследователь египетской литературы М. А. Коростовцев пишет: «Читатель, увидевший в приведенном отрывке стихотворение из семи строф, будет прав. В пользу этого свидетельствует и ритмическая организация текста, и параллелизм его композиции, подчеркнутый дословным повторением первой строчки каждой строфы. Но тщетными окажутся наши надежды увидеть стихотворение графически выделенным. Строки надписи гораздо длиннее строк стихотворения. Первая стихотворная строка лишь завершает длинную прозаическую строку надписи, в которой Уни толкует о безграничном доверии к нему фараона. Сразу же за последним стихом, в той же строке надписи, Уни продолжает свой рассказ в прозе. Однако высказанные соображения свидетельствуют лишь об ограниченности наших познаний в египетской поэзии и способах ее передачи, но не противоречат главному: перед нами – один из наиболее ранних египетских поэтических текстов, включенный в ткань прозаического произведения повествовательного характера»[19].
Наиболее интересные в содержательном и художественном отношении надгробные автобиографические надписи были созданы в интервале между серединой XXVI и серединой XXIII в. до н. э. (время правления V и VI династий). К ним относится и надпись Хархуфа, правителя Элефантины (самой южной области Египта), рассказывающая о предпринятых им походах к верховьям Нила, в страну Иам, т. е. в глубь Африки, откуда он доставил малолетнему еще фараону пигмея. Дошли и автобиографии других вельмож, отражающие не только их деяния во славу фараона и ради собственной славы, но и их желание оставить добрый след на земле, который будет оценен богами в загробной жизни. Так вызревает идея загробного воздаяния, которая четко закрепляется в более поздней «Книге мертвых», – идея божественной награды или наказания после смерти в зависимости от поведения человека в земной жизни. В частности, тот же Хархуф, рассказывая об одном из своих добрых дел, замечает: «Я хотел, чтобы было хорошо мне у бога великого» (перевод М. Коростовцева). М. А. Коростовцев подчеркивает новизну этого явления: «Если раньше, по мнению египтян, вечную жизнь в загробном мире им гарантировали тщательное соблюдение заупокойного ритуала и всемогущая магия, то с конца эпохи Древнего царства в их представлениях, наряду с ритуальным, появляется принцип этический. Ритуальная традиция на каком-то этапе перестает удовлетворять возросшие духовные потребности общества. Возникают новые, уже нравственные потребности. Именно они и отражены в автобиографиях вельмож, в которых – уже в то удаленное от нас на тысячелетия время – мы впервые обнаруживаем попытки этического осмысления человеческого бытия. Поэтому в древнеегипетских исторических автобиографиях мы вправе видеть не только начало своего рода мемуарной литературы, но и качественно новый этап в развитии египетской художественной литературы в целом»[20].
Однако в еще большей степени попытка этического осмысления бытия была предпринята в египетских поучениях, или дидактической литературе, правомерно именуемой также афористикой, ибо поучение чаще всего облекалось в лаконичную афористическую форму.
Дидактика и афористика
Жанр поучения был одним из наиболее почитаемых и любимых в Египте (и на всем Древнем Ближнем Востоке). Он отражал стремление древнего сознания к высокой интеллектуальной игре, тяготение к острому и меткому слову и одновременно содержал результаты глубоких философских раздумий, наблюдений над жизнью. Поэтому самими египтянами такого рода произведения, с почтением переписывавшиеся и передававшиеся из поколения в поколение, правомерно связывались с именами великих мудрецов, живших в эпоху Древнего царства, а также с продолжателями их традиции в эпоху Среднего царства. Их почтительно вспоминает автор уже упоминавшегося поучения «Прославление писцов», созданного почти через тысячу лет после завершения эпохи Древнего царства:
Есть ли где-нибудь кто-то, подобный Джедефхору?
Есть ли кто-то, подобный Имхотепу?
Нет среди нас такого, как Нефри
И Хетти, первого из всех.
Я напомню тебе имя Птахемджхути
И Хахеперрасенеба.
Есть ли кто-нибудь, подобный Птаххотепу
Или Каресу?
Мудрецы, предрекавшие будущее, —
Вышло так, как говорили их уста.
Это написано в их книгах,
Это существует в виде изречения.
После появления перевода А. А. Ахматовой, работавшей над переводами из египетской лирической поэзии вместе со своим вторым мужем, выдающимся востоковедом В. К. Шилейко, египтологи уточнили звучание некоторых имен, упоминающихся в этом знаменитом папирусе. Так, имя Кареса скорее всего звучало как Каирос, и о нем, как и о Птахемджхути, как и о Нефри, ничего не известно (есть предположение, что Нефри тождествен Неферти, автору «Пророчества Неферти», относящемуся к началу эпохи Среднего царства). Имя Хетти правильнее читать как Ахтой, и установлено, что этот мудрец, как и Хахаперрасенеб (более точное звучание его имени), жили в эпоху Среднего царства. Три остальных знаменитых мудреца – Имхотеп, Джедефхор и Птаххотеп (или Птахотеп) – подлинные исторические личности, прославившие свои имена в эпоху Древнего царства.

























