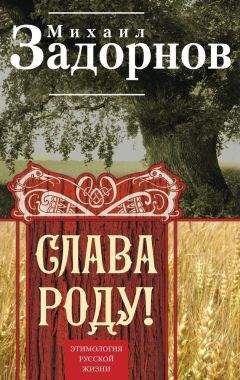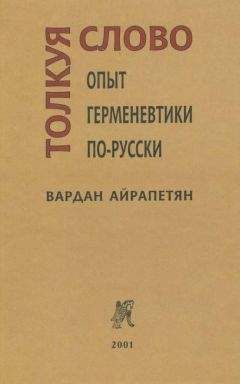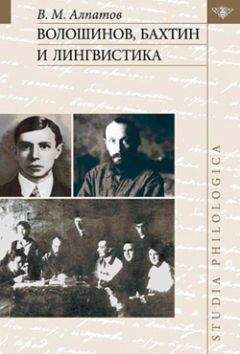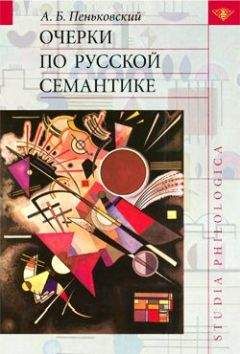Вардан Айрапетян - Русские толкования
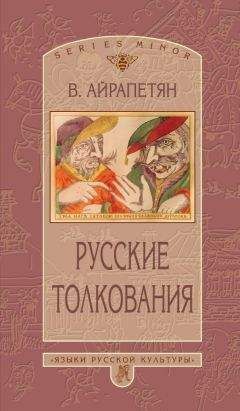
Помощь проекту
Русские толкования читать книгу онлайн
К бахтинским «я для себя» и «я для другого»: это я сам, сам по себе, и я как другой, один из многих; я единственный и я как все; это моя самость и моя другость. Ср. различение «первичного автора» и «вторичного» в поздних записях — ЭСТ1, с. 353 сл. Вот невидяще-ненавидящий отзыв Натальи Бонецкой, Бахтин метафиз.: «Бахтин релятивизирует „я“, образ Божий в человеке, с помощью неологизмов — монстров „я-для-себя“ и „я-для-другого“» (с. 111, в скобках).
Борхес и я кончается так: «Не знаю, который из двоих пишет эту страницу.» — «Я» Борхеса, посмотревшись в зеркало самопознания, дало «другому» и эту страницу.
Слово и пословица. К слову как «услышанному»: «Лишь потом, в других десятилетиях и полушариях, я понял: слово должно быть сказано и услышано (двумя или тремя), иначе оно не слово, а только звук.» — В. Яновский, Поля Елисейские, 7. И Топоров, Святость 1 (из прим. 46 на с. 207 сл.):
Вообще Слово — это то, что может и должно быть услышано, предназначено к у слышанию, т. е. то, что предполагает не только Я, субъект речи, автора Слова, но другого (Ты) и, как правило, завершенность коммуникации в слове, иначе говоря диалог, который имел место, — в отличие от сказать (говорить), не требующего непременного участия воспринимающего сказанное друг[ого] и, следовательно, диалога (ср. глас вопиющего в пустыне, повисающий в одиночестве невоспринятости) и — в случае сказать — апеллирующего к феноменальному (зрение — показ: с-казать, но ис-чезать).
— Да, но «Я», которое есть субъект речи, автор Слова, подобает одному Богу, можно сказать вслед за цадиком Аароном из Карлина (по Буберу), а для меня самого говорящий — другой. Идею чужести слова обновляет слово по-словица, от формулы следования и цитирования по слове/слову, обновляемой в по пословице. «Не всякое слово пословица» (ПРН, с. 972), но это позднéе, когда чужесть в слове ослабла, а первоначально всякое, ср. древнерусское и диалектное пословица «слово (языка)»; первоначально слово есть чужое-общее высказывание (общий: польское obcy «чужой», но ср. своеобщий), по котором/которому я делаю и говорю. Пословица — слово мирового человека, кому я пословен, послушен. Близко слову-пословице обозначение священного писания индуистов śruti- с тем же индоевропейским корнем «слышать, слушать», впрочем см. В. Семенцов, Интерпрет. брахман., 1.8. Сюда же санскр. mantra-, о котором см. Инд. мантру Яна Гонды, и церковное паремия «чтение из Священного писания» при пареми`я фольклористики (παροιμíα). О пословице ср. А. Григорян, Посл, посл., прим. И на с. 226.
Гомеровы призывы к Музе и поэт как «толковник богов» у Платона, οí δ`ε ποιŋταì ονδ`εν áλλ' ŋ˝ `ερμŋνŋˇς ειοì των θεων (Ион, 534е), и Горация, sacer interpresque deorum — Orpheus (Искусство поэзии, 391 сл.), свидетельствуют об исконной чужести слова, понимание которой вернул нам Бахтин. А Вергилий, начавший Энеиду от себя, стал образцом для европейской поэтической отсебятины — все эти «пою» (их упоминает С. Аверинцев, Поэтика ранневиз., гл. Слово и книга) или «певец» как самоназвание того, кто пишет стихи. К порицаемому в Искусстве поэзии зачину «киклического писаки» «fortunam Priami cantabo et nobile bellum» (136 сл.) см. 4. Бринк, Гор. поэз. 2, с. 214; сходство с Arma virumque сапо-- Энеиды здесь не отмечено. К чужести слова ср. «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня.» из Второй книги царств (23.2) или «Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас.» из Матфея (10.20). О говорении того, что «хочет Бог, чтобы я говорил», есть запись Слияние своей жизни-- в Уединенном Розанова. Но вот как криво истолкован праведный зачин Илиады у Григория Паламы: «Гомер тоже призывает богиню воспеть через него человекоубийственный гнев Ахилла, давая этому демону пользоваться собой как орудием и возводя к той же богине источник своей мудрости и красноречия.»[9]— Триады в защиту священно-безмолвствующих, 1.1.15; это победное, торжествующее выставление языческого божества бесом называется interpretatio christiana.
Мифологема божественного слова. Сократ у Платона (Ион, 534cde) о поэтах:
--ради того бог и отнимает у них рассудок и делает их своими слугами, божественными вещателями и пророками, чтобы мы, слушая их, знали, что не они, лишенные рассудка, говорят столь драгоценные слова, а говорит сам бог (ó θεòς α`ντóς `εστιν ó λ`εγων) и через них подает нам свой голос, — мы не должны сомневаться, что не человеческие эти прекрасные творения и не людям они принадлежат, они божественны и принадлежат богам, поэты же — не что иное как толкователи воли богов, одержимые каждый тем богом, который им владеет.--[10]
Сюда же «язык богов», но и Бог-Слово в прологе Евангелия Иоанна (к нему см. хотя бы К. Эванс, Слово и слава), `Εν àρχŋ ŋν ó λóγος καì ó λóγος ŋν πρòς τòν θεóν, καì θεòς ŋν ó λóγος. «Изначально — до сотворения мира — был Тот, кто зовется Словом. Он был с Богом, и Он был Бог.»[11] Это мифологическое отчуждение слова и языка свидетельствует об исконной чужести слова, об изначальной другости говорящего.
«Христианское толкование» переосмыслило в свою пользу и Вергилия, вот об этом Николай Бахтин на собрании Зеленой лампы в 1927, тема «Есть ли цель у поэзии?»:
Кто создает живое, тот должен сознавать, что рано или поздно он будет не в силах связать его своим заданием, потеряет власть над ним. Так же точно и поэт. Возьмем пресловутую 4-ю эклогу Виргилия, наилучшие слова, оставшиеся такими, какими они возникли в устах поэта. Виргилий твердо знал, чего хочет, и умел найти слова, которые могли бы его выразить с должной чистотой и ясностью. Но хотел ли он, знал ли, с какими силами вступит в связь его создание? Не содрогнулся ли бы он от ужаса, если бы услышал пресловутую речь Лактанция на Никейском соборе?
(по стенографическому отчету во Встречах Ю. Терапиано, с. 76 сл.); христианизация Четвертой эклоги здесь пример общей с братом Михаилом идеи, что художественное произведение в своей жизни свободно от автора. А вот о том же переосмыслении, но как его соучастник, — Георгий Федотов к двухтысячелетию Вергилия (Лицо России, с. 311):
Но несомненно: если бы за щитом и латами классицизма не билось мистическое сердце, чуткое к голосам и предчувствиям, разве мог бы Виргилий стать Сивиллой, пророчествующей о Христе? — Не произвольно и не искусственно патриотические и средневековые теологи связали пророчество Виргилия с Вифлеемским Младенцем. Виргилий выразил всю тоску древнего мира об Искупителе, все смутные ожидания, сгустившиеся в век Августа в напряженный мистический зов. Уставно-обрядовое благочестие Энея, в конце концов, лишь рабочая трансформация белого угля четвертой эклоги.
«Ветхозаветные пророчества» об Иисусе Христе и его «прообразы», например Иосиф у Паскаля — Мысли, 570/768. Только если верно, что «душа христианка», тогда interpretatio christiana честный прием, а задача герменевтики — помогать христианам в соглашении всех несознательных с их собственной душой. Конечно, anima naturaliter religiosa, но не naturaliter christiana; сказав это второе, Тертуллиан (Апологетик, 17) выдал ересь преуспевшей секты за естественную религию человечества. «Самое страшное в христианстве — то, что это религия победителей.» — С. Лёзов, Очерки современного православного либерализма (Попытка, с. 203).
Мандельштам о Данте (Разговор о Данте, 10):
Секрет его емкости в том, что ни единого словечка он не привносит от себя. Им движет всё что угодно, только не выдумка, только не изобретательство. Дант и фантазия — да ведь это несовместимо!.. — Какая у него фантазия? Он пишет под диктовку, он переписчик, он переводчик… Он весь изогнулся в позе писца, испуганно косящегося на иллюминованный подлинник, одолженный ему из библиотеки приора.
К этому месту есть пояснение Надежды Мандельштам:
Мандельштам утверждает, что «ни одного словечка он (Данте) не привнесет от себя… он пишет под диктовку, он переписчик, он переводчик…» Литературовед этого бы сказать не мог. Это мог сказать только поэт, на собственном опыте познавший категоричность внутреннего голоса. Из приведенной цитаты следует, что в поэтическом труде немыслим никакой произвол, ни выдумка, ни фантазия. Все эти понятия Мандельштам относил к отрицательному ряду-- Фантазия и вымысел дают фиктивный продукт — беллетристику, литературу, но не поэзию. — Есть эпохи, когда возможно только литературное производство, фикция, потому что внутренний голос заглушен и «душа убывает».