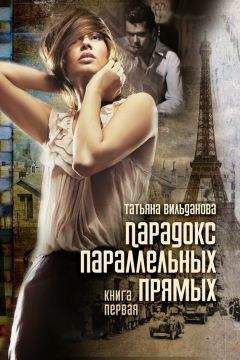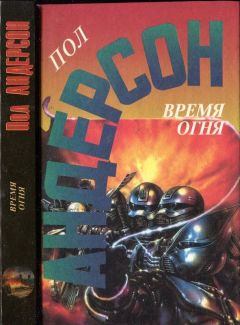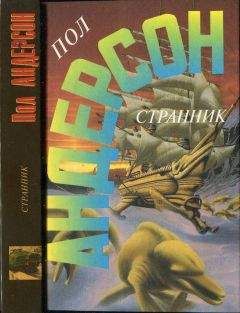Сергей Зенкин - Работы о теории. Статьи
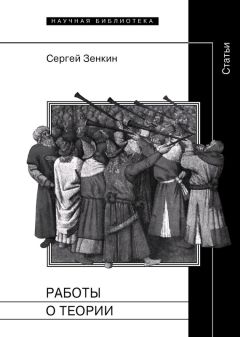
Помощь проекту
Работы о теории. Статьи читать книгу онлайн
Чтобы доказать этот тезис, мы в заключение укажем две специфические области такого обмена, два предельных случая, уже открытых и описанных другими выдающимися теоретиками.
Первый случай можно было бы обозначить как поведение по удаленному образцу. В 1970-х годах Юрий Лотман обосновал возможность научной дисциплины, которую он назвал «поэтикой бытового поведения» и которая в дальнейшем повлияла не некоторые теоретические идеи англосаксонского «нового историзма»[52]. Из исследований Лотмана явствует, что не только повседневные манеры поведения (в чем нас давно убедила интеракционистская психология и социология) можно описывать как исполнение некоторой «роли», заложенной в наших навыках социальной жизни и адаптируемой к той или иной ситуации; существуют также специфические способы социально-исторического поведения – «героическое», «революционное» и т. д., – которые в некоторых социальных группах (таких как русское дворянство XVIII–XIX веков) подражают литературным или театральным образцам и в этом смысле образуют предмет настоящей «поэтики». Их специфика заключается в удаленном характере образцов для подражания: практикующие их люди следуют примеру не своего окружения, как более или менее поступают все, но примеру «трансцендентных» лиц, таких как литературные или драматические персонажи. Эта удаленность образцов делает очевидным смысловой обмен между поступками и структурами: первые непосредственно осуществляются в реальном общественном мире (иногда это в высшей степени серьезные поступки, такие как рассмотренное Лотманом самоубийство Радищева, подражающее трагическим сценам в театре), последние же пребывают в фикциональном мире художественных произведений. Из их онтологической разделенности следует дискретно-диалектический характер взаимодействия между ними. Поведение по удаленному образцу имеет место не только в «бытовых» ситуациях, но и в политических событиях (Французская революция подражает Римской республике, и т. п.), в религиозном подвижничестве («подражание Христу») и т. д. Важно подчеркнуть, что такое поведение трудно истолковать в рамках чисто нарративной логики: конечно, жизнь Христа – это нарратив, и нарративом может быть также жизнь христианского монаха, однако вместе они не образуют единого нарратива; между ними есть онтологический, вернее семиотический разрыв, который заполняется и опосредуется мимесисом семантических структур.
Второй особый случай – это то, что можно условно назвать смыслоразрушительным поведением. Как показал в ряде своих работ Жорж Батай[53], для социальной жизни чрезвычайно важны различные виды истребительно-жертвенной активности. Практикующие такую активность – а мы все делаем это в некоторые особые периоды своей жизни, такие как религиозные обряды, праздники, моменты сексуального или художественного опыта, – более или менее осознанно стремятся упразднить само понятие смысла, выжечь в жертвенном огне всякую возможность рационального истолкования, сделать неосуществимым какое бы то ни было дистанцирование субъекта от объекта. Как утверждает Батай, переживаемый при этом экстатический опыт отсылает к докультурному, «сокровенному» единству между индивидуальным существом и окружающей средой (в пределе – всем мирозданием). Время от времени людям требуется заново переживать свое до-человеческое состояние, совершая те или иные «абсурдные», явно бесполезные, иногда саморазрушительные поступки, которым по определению нельзя приписать никакого смысла; подобными поступками прерывается всякая логическая последовательность, включая последовательность нарративной «истории». Однако социально-исторический процесс идет своим чередом; на миг прерванный бес-смысленными деяниями, он тут же начинает вновь нарративизировать их, наделять вторичными значениями и функциями, сочиняя их задним числом: религиозные жертвоприношения осмысляются как умилостивление сверхъестественных сил, праздники – как средство социальной интеграции, сексуальность – как воспроизводство рода человеческого, а искусство – как нравственное воспитание людей. Все эти функции, несомненно, присутствуют в реальности и даже могут быть генетически первичными (скажем, воспроизводство является, по-видимому, первичной функцией сексуальной активности), но ими не вполне покрывается переживаемый в подобные моменты опыт бес-смысленности. Этот опыт превосходит тот смысл, который сами агенты могли сознательно приписывать своим деяниям, – примерно так же, как текст или «осмысленное действие», по Рикёру, превосходят свою исходную ситуацию и исходную интенцию автора. Правда, в рикёровских терминах подобные действия уже нельзя считать «осмысленными», поскольку, хотя их «авторы» и могут рассказать нам, что они делают («я приношу в жертву животное», «я наслаждаюсь произведением искусства» и т. п.), в конечном счете «смысл» их деяния заключается в самой его бессмысленности: «я делаю это низачем»[54]. В такой ситуации диалектика семантических структур и асемантических поступков принимает форму открытого конфликта, и его разрешением (всегда временным) формируется ход нашей общественной жизни.
Эти два предельных случая (возможно, есть и другие), которые можно было лишь кратко обозначить здесь, резко отличаются друг от друга как сверхосмысленность поступков в случае поведения по удаленному образцу (субъект стремится придавать своим действиям больше смысла, чем «нормальные» люди) и отказ от всякого их осмысления в случае смыслоразрушительного поведения. Однако у них есть важная общая черта: в обоих случаях перед нами непроизводительные, нетранзитивные виды действия; если вновь воспользоваться аристотелевскими категориальными разграничениями, их формальная причина (как действовать, как оформить тот или иной поступок?) всецело преобладает над их финальной причиной (для чего это послужит?). Такая не-финальность, нецелесообразность позволяет ставить их в один ряд с так называемыми «экзистенциальными» моментами, когда человек обнаруживает свою открытость и несущностность, когда вопрос «быть ли таким или иным?» преобладает над вопросом «для чего быть?». Включить такие высоко проблематичные моменты в семантическую структуру социально-исторического процесса – решающе важная задача гуманитарных наук; в самом деле, ведь этим на свой лад занимается и сам социально-исторический процесс, и его спонтанную аутогерменевтику следует продолжить другой, более методически сознательной. То будет по-прежнему герменевтика, дискурс, интерпретирующий социальные смыслы, – но герменевтика обновленная и обогащенная методологическим опытом структуральной семиотики[55].
В том, что касается дисциплинарных разграничений, эпистемологическая задача, завещанная нам Полем Рикёром вместе с предложенной им «моделью текста» для социального действия, требует объединить усилия двух исторических дисциплин, которые не всегда легко ладят между собой: «обычной» истории деяний (historia rerum gestarum) и интеллектуальной истории идей. Поскольку поступки и семантические структуры непрерывно обмениваются друг с другом в ходе истории, то требуются новые методологические подходы для характеристики их диалектического и часто конфликтного взаимодействия. Как уже сказано выше, философия Рикёра, подобно любой другой априорной рефлексии, могла лишь обозначить эту проблему и очертить ее наиболее абстрактные аспекты; теперь дело «позитивных» гуманитарных наук – наполнить эту схему конкретно-историческим рабочим содержанием.
2011
ТЕОРИЯ ПИСАТЕЛЬСТВА И ПИСЬМО ТЕОРИИ
В одном из примечаний к «Практическому смыслу» Пьера Бурдье (1980) содержится любопытное сопоставление работы этнолога (можно сказать шире – социолога) и филолога:
Положение этнолога не слишком отличается от положения филолога с его мертвыми письменами. Помимо того, что этнолог вынужден опираться на свои псевдотексты, каковыми являются официальные речи его информаторов, склонных выпячивать наиболее кодифицированные аспекты традиции, ему часто приходится прибегать (например, при анализе ритуалов и мифов) к текстам, записанным другими лицами и при неясных обстоятельствах. Одно то, что миф или ритуал регистрируется, превращает его в предмет исследования, отделяя от конкретных референтов (названия мест, групп, земель, имена людей), от ситуаций, в которых он действует, и от индивидов, которые приводят ритуал в действие, ссылаясь на практические его функции…[56]
Работа этнолога и филолога в том, чтобы интерпретировать социальный материал, смысл которого затемнен – историческими обстоятельствами, этнокультурной дистанцией, более или менее своекорыстными искажениями, внесенными информантом (в случае филологии – переписчиком, переводчиком, издателем, цензором и т. д.). Есть, однако, существенная разница между двумя науками, и Бурдье, скорее всего, ощущал ее, отбрасывая свое сопоставление в необязательную сноску: интерпретируемый ими материал различен по природе. Этнология и социология имеют дело с поступками, «поведениями» (conduites), филология же – с текстами. За последние десятилетия, в процессе своего структуралистского, а затем и постструктуралистского перерождения, филология немало сделала для того, чтобы сломать эту границу, научившись читать социальное поведение как тексты («поэтика бытового поведения», «новый историзм») и заявив – устами, правда, не филолога, а философа Деррида, – что «вне-текста не существует». Пьер Бурдье противился такому смешению и отстаивал специфику социологии как исследования именно нетекстуальных практик и событий (хотя они, разумеется, могут, а нередко и должны выражаться и передаваться в форме текстов). Он был принципиальным оппонентом филологии, прежде всего филологии обновленно-теоретической, и в качестве такового особенно ценен для ее собственного методологического самосознания. Социология Бурдье обозначает собой тот предел, дальше которого не может заходить филология в текстуализации социальной жизни.