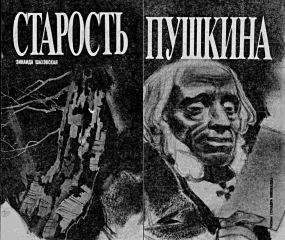Виталий Костомаров - Язык текущего момента. Понятие правильности
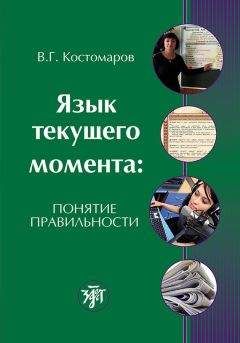
Помощь проекту
Язык текущего момента. Понятие правильности читать книгу онлайн
В последние полстолетия происходит не столько обособление, сколько сближение КЛЯ и РЯ (или РР) как двух разновидностей единого языка. Их появление связано, как уже замечено, с рождением книжности на основе изобретения письма и печати. Тонкий исследователь академик Д.Н. Шмелёв первым чётко представил современный русский литературный язык в виде органического единства этих «функциональных типов», хотя, разумеется, без утраты их особенностей, без их слияния.
Точно определить понятие разновидность языка мешает малая изученность стилевых законов, слабо данных в наблюдении, доступных, видимо, лишь векторному описанию. Это не особый язык (подъязык) с замкнутой системой средств выражения, а достаточно детерминированное функционирование системы единого языка. Уступкой традиции надо счесть и те места в книге Д.Н. Шмелева, где слово «стиль», с оговоркой об условности понятия, употребляется в функциональном плане. Показательно, однако, что ни слово «стиль», ни слово «стилистика» учёный не вынес в название книги, да и в тексте писал о разновидностях или типах функционирования.
Разновидности языка идентичны в том смысле, что обе принадлежат одному и тому же русскому языку, составляя его как одинаково достойные и правильные части. Это отнюдь не означает, что они совершенно идентичны, но лишь то, что их различия не имеют кардинальности. Их различие определяется способом реализации: естественным звучанием контактного общения и молчаливым условным письмом. У разговорного языка избыток невербальных возможностей передать мысли и чувства; литературный язык прикован к письму.
В обеих разновидностях функционируют звуки и законы их сцепления (редукция гласных, оглушение и озвончение согласных). В одной, однако, более допусти́м «неполный стиль произношения» (выражение Р.И. Аванесова). В звучании нормальны тыща, мильён, када, скока, тока, рази, Марьванна, нередко встречающиеся и в печати, например тыща («В две тыщи первом году…», Российская газета[2], 2010. 18 дек.), мильон (у Грибоедова: «Мильон терзаний… Ногам от шарканья, ушам от восклицаний, А пуще голове от всяких пустяков»), вместо узаконенных тысяча, миллион, когда, сколько, только, разве, Мария Ивановна.
Налицо некоторые произносительно-грамматические расхождения: иду к Иван Сергеичу, мы с Сергей Семёнычем (с Сергеем Семёновичем нормально на письме, но звучит напыщенно и пафосно даже в официальном обстановке), слушаю Арам Хачатуряна, читаю Марк Твена и Жюль Верна, а не к Ивану Сергеевичу, Арама Хачатуряна, Марка Твена, Жюля Верна. Пожалуй, обе разновидности допускают краткие килограмм апельсин, несколько помидор, пара сапог, сто ватт, много грузин, бурят (правда, только таджиков, узбеков) вместо строгих книжных урожай помидоров, пара сапогов, сто ваттов, много бурятов (но не грузинов). Всё это не так уж существенно, чтобы говорить о разных языках.
Больше различий в словаре, но и они общепонятны и всё слабее привязаны к той или иной разновидности общего языка. Единственно серьёзным отличием этих разновидностей является синтаксис по той причине, что подчинение и сочинение, согласование, причина и следствия, условие и иные логико-грамматические связи и отношения в контактно-звуковом общении (даже если оно проходит в книжной разновидности) естественно обращаются к огласовке, мимике и жестикуляции, междометиям и частицам, тогда как в «молчащей» письменности не имеется иных средств, кроме как объяснительно-упорядочивающих языковых единиц – союзов, типов сочетания слов и видов предложений.
Разновидностью языка следует считать достаточно свободный, постоянно творчески (общественно и индивидуально-авторски) меняющийся набор способов отбора и композиции выразительных средств единой, внутренне целостной языковой системы, отличающийся от другого подобного набора. Оба эти набора исторически складываются в соответствии с конструктивно-стилевыми векторами, отражающими внеязыковые мотивы и факторы (обобщённые коммуникативным «треугольником») при порождении конкретных смысловых и композиционных целых – текстов в их группировках по схожести.
Книжность и разговорность в нынешней языковой жизни оправдывают сомнения в том, что разновидности противопоставлены. Ещё Ф.П. Филин полагал, что взгляд на разговорную речь как на самостийную систему – явное преувеличение. Новейший технический прогресс делает языковые разновидности уже не столько обособленными, не столько даже явлениями стилистическими, закреплёнными в языке, сколько стилевыми, определяемыми внеязыковыми свойствами текстов, параметрами общения и свойствами текстов.
Позволительно уже именовать некнижностью то, что называют разговорностью. Словарные пометы книжн. и разг. перестали указывать на сферу применения, встали в ряд с шутл., высок., неодобр. и прочими, указывающими на экспрессивную окраску.
* * *Наше языковое существование всё сильнее связывается не только с окружающим миром, но и с более широким миром и, соответственно, становится менее материально закреплённым в языке. Мы переключаемся на иной уровень коммуникации и, может быть, мышления. Перенос законов функционирования языка с собственно стилистической, то есть структурно-языковой, детерминированности на отвлечённую стилевую служит тому наиболее ярким доказательством.
Убрав изображение, невозможно следить за смыслом передаваемого телевизором только по звучанию реплик или по титрам, как бы точно они ни воспроизводили то, что звучит. Если картинка, иллюстрировавшая книжный текст, служила вспомогательным средством для его восприятия, то теперь, наоборот, вербальная составляющая дополняет изображение на экране телевизора или сайте Интернета. Изображения порой можно смотреть и понимать без словесного комментария, выключив звук. Визуальное становится важнее вербального и в письме, и в звуке. В этом можно узреть византийскую логику, всегда ясную в тенденциях, но никогда в деталях. В развиваемой нами концепции охватывается и проблема деталей – тем, что наряду со стержневой, упорядочивающей бесконечный континуум текстов ролью конструктивно-стилевых векторов признаётся и роль стилистических средств, которые, накладываясь на стилевые закономерности, теперь лишь детализируют, индивидуализируют. Они очеловечивают, украшают стилевые конструкции, занимаются интерьером и деталями жизни.
Выйдя из загона, звучащий язык вновь становится основой всех видов общения людей. Пусть он не повторит историческую ошибку Книги, долгие годы умалявшей его, и не начнёт в отместку несправедливо бороться с ней. Книга послужила и вечно будет служить цивилизационным и культурным ценностям, правильности языка, преемственности и глубине воспитания. Восприятие Книги требует напряжения ума и чувств, наличия навыка, опыта и знания. Полученное трудом органично входит в долговременную память, становится частью сознания, освоения и понимания мира, частью мировоззрения.
Характеризуя разговорную разновидность языка, Л.В. Щерба, под обаянием которого находится А.И. Горшков, имел в виду именно его некнижность: «…литературный язык прежде всего противополагается диалектам [несомненно, также жаргонам и другим, в самом деле, нелитературным, не-образованным явлениям. – В.К.], есть, однако, более глубокое противопоставление, которое, в сущности, и обусловливает те, которые кажутся очевидными. Это противоположение литературного и разговорного языков».
Вряд ли можно сомневаться в том, что речь здесь идёт о взаимодействии книжности и разговорности в пределах образованного языка, конечно же, более важного для него, нежели взаимодействие книжности и, скажем, диалектной стихии.
Тезис, будто разговорный язык не есть литературный, А.И. Горшков сопровождает многозначительной оговоркой: «Имеются в виду при этом, конечно, не какие-то особые языки (за теми исключениями, когда в качестве литературного выступает “чужой” язык), а разновидности употребления языка. Так что точные научные обозначения этих явлений были бы такие: литературная разновидность употребления языка и разговорная разновидность употребления языка. Однако выражения “литературный язык” и “разговорный язык” короче и столь прочно вошли в научный обиход, что отказываться от них было бы излишним педантизмом».
Непростительной небрежностью было бы и забывать, что речь идёт не о чем ином, как о своеобразных типах употребления единого языка. Неудачность определения разговорный тоже заставляет искать более точные обозначения для интересующего нас вполне правильного функционирования образованного языка, которое имеет место повседневно и буднично. Подошли бы слова обыденная (может быть, с устаревшим ударением обыдённая) часть некнижной (так!) разновидности.